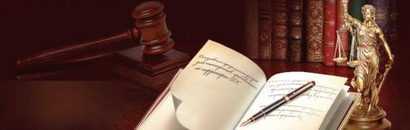ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №3 (2015)
(Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015)
(Извлечение)
По гражданским делам
1. Решение суда признается законным и обоснованным тогда, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, а имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а также тогда, когда в решении суда содержатся исчерпывающие выводы, вытекающие из установленных судом фактов.
Банк обратился в суд с иском к Г. о взыскании задолженности по кредитному договору, обеспеченному залогом квартиры, приобретенной за счет кредитных средств.
Решением районного суда в удовлетворении иска отказано.
Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое решение, которым иск банка был удовлетворен частично.
Дело неоднократно рассматривалось судебными инстанциями.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, отменяя определение суда кассационной инстанции в части оставления в силе решения суда первой инстанции и направляя дело в этой части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указал следующее.
В соответствии с п. 3 ст. 391.9 ГПК РФ судебные постановления подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда Российской Федерации установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление нарушает единообразие в толковании и применении норм права.
Под нарушением судебным постановлением единообразия в толковании и применении норм права понимается содержащееся в судебном постановлении такое толкование и применение правовых норм, которое противоречит разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
В силу п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении» (далее — постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о судебном решении) решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ).
Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59 — 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации о судебном решении).
Поскольку в силу ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в решении суда должен быть указан закон, которым руководствовался суд, необходимо указать в мотивировочной части материальный закон, примененный судом к данным правоотношениям, и процессуальные нормы, которыми руководствовался суд (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации о судебном решении).
Отменяя апелляционное определение при повторном кассационном рассмотрении и оставляя в силе решение суда первой инстанции, Судебная коллегия сослалась на то, что данное апелляционное определение не соответствует требованиям ст. 195 ГПК РФ.
По смыслу данной статьи, обоснованным признается судебное решение, в котором всесторонне и полно установлены все юридически значимые для дела факты, подтвержденные доказательствами, отвечающими требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а сами выводы суда соответствуют обстоятельствам дела.
Поскольку юридически значимым по делу обстоятельством являлось установление того, вследствие чего произошло прекращение ипотеки на спорную квартиру, принадлежащую Г. на праве собственности, Судебная коллегия пришла к выводу о том, что суду апелляционной инстанции следовало установить, по какому основанию, предусмотренному ст. 352 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных отношений) и ст. 34 Закона Российской Федерации от 29 мая 1992 г. N 2872-1 «О залоге», был прекращен залог. Однако таких оснований, как отметила Судебная коллегия, судом апелляционной инстанции указано не было.
Признав, что судом апелляционной инстанции не были установлены юридически важные обстоятельства, что свидетельствует о нарушении предписаний ст. 195 и 198 ГПК РФ в их истолковании, содержащемся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации о судебном решении, суд кассационной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
На основании ч. 1 ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.
Таким образом, выявление и собирание доказательств по делу является деятельностью не только лиц, участвующих в деле, но и суда, в обязанность которого входит установление того, какие доказательства могут подтвердить или опровергнуть факты, входящие в предмет доказывания.
В случае недостаточности доказательственной базы для вынесения законного и обоснованного решения суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства.
Отменяя апелляционное определение, Судебная коллегия указала, что апелляционная инстанция в нарушение требований ч. 4 ст. 198 ГПК РФ без приведения доводов отвергла письмо заместителя председателя исполнительной дирекции банка (истца) и письмо регистрирующего органа об основаниях внесения записи о прекращении ипотеки.
Однако при рассмотрении кассационной жалобы представителя Г. на новое апелляционное определение Судебная коллегия оставила без внимания то обстоятельство, что при новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции не выполнил указания суда кассационной инстанции и не устранил допущенные нарушения норм процессуального права.
Между тем установление факта того, как были исполнены указания вышестоящего суда о необходимости соблюдения нижестоящим судом норм процессуального законодательства, являлось обязательным.
Как указано в п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. N 29 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции», если судом кассационной инстанции будет установлено, что судами первой и (или) апелляционной инстанций допущены нарушения норм процессуального права при исследовании и оценке доказательств, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера (например, судебное постановление в нарушение требований ст. 60 ГПК РФ основано на недопустимых доказательствах), суд учитывает эти обстоятельства при вынесении кассационного постановления (определения).
Исходя из данных разъяснений, Судебная коллегия в случае установления факта неисполнения указаний вышестоящего суда обязана была направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в целях устранения допущенных нарушений и вынесения определения, отвечающего требованиям законности и обоснованности.
Этого Судебной коллегией при рассмотрении кассационной жалобы сделано не было, что повлекло за собой нарушение единообразия в применении норм процессуального права, устанавливающих требования к судебному решению.
Постановление Президиума
Верховного Суда РФ № 5-ПВ15
По экономическим спорам
2. Создание и финансирование третейского суда одной из сторон спора либо аффилированными с ней лицами само по себе при отсутствии доказательств нарушения гарантий справедливого разбирательства, в частности беспристрастности конкретных арбитров, не является основанием для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Решением третейского суда при некоммерческой организации был удовлетворен иск банка к обществу и гражданину о взыскании солидарно задолженности по кредиту.
В связи с неисполнением ответчиками решения в добровольном порядке банк обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда округа, заявление банка удовлетворено.
Руководствуясь ст. 236, 239 АПК РФ и ст. 5, 7, 44 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (далее — Закон о третейских судах), суды исходили из наличия между сторонами действительных третейских соглашений.
Суды также установили, что в деле отсутствуют протоколы разногласий и иные доказательства, подтверждающие, что общество выдвигало возражения относительно содержания третейского соглашения и передачи возможных споров на рассмотрение указанного третейского суда. При этом суды не нашли оснований для признания договоров, содержащих третейские оговорки, договорами присоединения, отметив, что их форма и содержание не соответствуют формуляру или иной стандартной форме, которая использовалась банком при заключении подобных договоров с другими лицами.
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации названные судебные акты отменены, в выдаче исполнительного листа отказано. Президиум пришел к выводу, что факт участия банка в создании некоммерческой организации, при которой образован третейский суд, и ее финансирование свидетельствуют о нарушении гарантии объективной беспристрастности суда и, следовательно, равноправия спорящих сторон.
Согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 30-П, вынесенном при рассмотрении дела по жалобе банка, положения ст. 18 Закона о третейских судах, п. 2 ч. 3 ст. 239 АПК РФ и п. 3 ст. 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Закон о некоммерческих организациях») не предполагают отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда на том лишь основании, что сторона, в пользу которой оно было принято, является одним из учредителей автономной некоммерческой организации, при которой создан данный третейский суд. В резолютивной части Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что судебные акты по делу банка, вынесенные на основании указанных статей в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в данном постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий.
Банк обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации удовлетворил заявление банка, поскольку постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации было вынесено на основании положения ст. 18 Закона о третейских судах, п. 2 ч. 3 ст. 239 АПК РФ и п. 3 ст. 10 Закона о некоммерческих организациях в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом.
При рассмотрении дела по правилам гл. 36.1 АПК РФ Президиум Верховного Суда Российской Федерации согласился с выводами судов нижестоящих инстанций о действительности третейского соглашения, в том числе об отсутствии оснований полагать, что условия договора, содержащие третейскую оговорку, были навязаны банком обществу и гражданину и что они были лишены возможности заключения договоров на иных условиях.
Вместе с тем, поскольку из отзывов банка при рассмотрении дела Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации следовало, что в отношении общества начата процедура банкротства и в реестр требований кредиторов включены суммы по спорному договору, а также что решением городского суда с гражданина в пользу банка взыскана аналогичная задолженность, Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил определение суда первой инстанции и постановление арбитражного суда округа и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Постановление Президиума
Верховного Суда РФ №49-ПЭК15
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
I. Разрешение споров, возникающих из договорных отношений
1. Если законом или договором не предусмотрено иное, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права, включая право на неустойку с момента нарушения должником срока исполнения обязательства, и в том случае, если оно имело место до перехода права к новому кредитору.
Ш. обратилась в суд с иском к организации о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафа и о возмещении убытков.
Судом по делу установлено, что 26 июля 2012 г. организация (ответчик) и Х. заключили договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома.
Х. полностью и в установленные договором сроки оплатила организации (ответчику) стоимость двухкомнатной квартиры.
По условиям договора участия в долевом строительстве квартира должна быть передана дольщику не позднее 31 августа 2012 г.
25 сентября 2012 г. стороны заключили дополнительное соглашение, по которому датой сдачи объекта являлось 1 ноября 2012 г., а срок передачи квартиры составлял 40 рабочих дней со дня сдачи объекта.
На основании договора об уступке права требования от 25 апреля 2013 г. Х. уступила Ш. право требования к организации (ответчику) передачи в собственность указанного объекта недвижимости.
Квартира передана застройщиком Ш. 10 июля 2013 г., то есть по истечении 193 дней после предусмотренной договором долевого строительства даты.
Разрешая спор и удовлетворяя требования истца в части взыскания неустойки за нарушение срока передачи объекта недвижимости, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что неустойка подлежит исчислению с даты, определенной сторонами в договоре участия в долевом строительстве многоквартирного дома и дополнительном соглашении к нему.
Изменяя решение суда первой инстанции в этой части, суд апелляционной инстанции сослался на положения заключенного между Х. и Ш. договора об уступке прав требования от 25 апреля 2013 г., согласно которому право требования к организации (ответчику) у нового кредитора возникает с момента государственной регистрации договора уступки прав требования. Исходя из этого, суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что неустойку следует исчислять с момента регистрации данного договора, то есть с 6 мая 2013 г.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с выводами суда апелляционной инстанции не согласилась, признав их основанными на неправильном применении норм материального права.
Согласно чч. 1 и 2 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон об участии в долевом строительстве) застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного ч. 3 данной статьи.
В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная указанной частью неустойка (пеня) уплачивается застройщиком в двойном размере.
В соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.
В силу ч. 2 ст. 11 Закона об участии в долевом строительстве уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается с момента государственной регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.
Согласно ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.
В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Как установлено судом и следует из материалов дела, право на взыскание с ответчика неустойки возникло у первоначального кредитора (Х.) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 26 июля 2012 г. с 28 декабря 2012 г., то есть с момента просрочки передачи квартиры. Соответственно, по договору уступки права требования новый кредитор (Ш.) приобретает тот же объем прав, в том числе право требовать взыскание неустойки с ответчика.
Пункт 2.5 договора об уступке права требования, на который сослался суд апелляционной инстанции, указывает лишь на момент перехода права к новому кредитору, но не изменяет срок исполнения обязательств ответчика по договору долевого участия в строительстве и не ограничивает объем прав, переходящих к новому кредитору, в том числе и в части, касающейся неустойки.
Другие положения договора уступки также не содержат ограничений объема прав, передаваемых новому кредитору по договору долевого участия в строительстве.
Не содержат подобных ограничений и указанные выше положения ч. 2 ст. 11 Закона об участии в долевом строительстве.
С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила апелляционное определение в той части, в какой решение суда первой инстанции изменено в части взыскания неустойки, штрафа и возмещения расходов на уплату государственной пошлины, дело в этой части направила на новое апелляционное рассмотрение.
Определение N 2-КГ14-1
II. Разрешение споров, связанных с трудовыми
и социальными отношениями
2. Размер ежемесячной страховой выплаты, назначенной в 2000 году в возмещение вреда здоровью, причиненного работнику профессиональным заболеванием, на основании п. 10 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 г. N 90-ФЗ, перерасчету не подлежит .
———————————
Из раздела II «Практика рассмотрения дел по спорам, возникающим из социальных, трудовых и пенсионных правоотношений» Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2013 года отзывается Определение N 81-КГ13-1 (пример под номером 5).
К. через представителя по доверенности Х. обратился в суд с иском к органу социального страхования о перерасчете ежемесячной страховой выплаты, взыскании недоплаченных страховых выплат и индексации.
Судом установлено, что К. получил увечье вследствие несчастного случая на производстве, произошедшего 23 июня 1993 г.
Заключением медико-социальной экспертизы ему установлена утрата профессиональной трудоспособности в размере 40% с 18 февраля 1999 г. по 18 февраля 2000 г.
До момента обращения в суд с данным иском степень утраты трудоспособности К. не изменялась.
Суммы возмещения вреда здоровью впервые назначены К. приказом работодателя от 16 февраля 1994 г. в период действия правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. N 4214-1 (далее — Правила возмещения работодателями вреда).
В соответствии с п. 11 указанных правил работодателем применены все коэффициенты к заработной плате, из которой исчислено возмещение вреда здоровью.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее — Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ) личное (учетное) дело К. передано работодателем в орган социального страхования. При приемке личного (учетного) дела К. нарушений не выявлено, в связи с чем на основании ст. 28 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ страховщик продолжил выплачивать ему страховое обеспечение в размерах, определенных работодателем.
Приказом органа социальной защиты от 22 марта 2000 г. К. назначена ежемесячная страховая выплата с 6 января 2000 г. Размер ежемесячных страховых выплат определен страховщиком в соответствии с Правилами возмещения работодателями вреда исходя из среднемесячного заработка К. за 12 месяцев, предшествующих установлению ему утраты профессиональной трудоспособности (с июня 1992 года по май 1993 года). В дальнейшем с 2001 по 2011 год размер ежемесячных страховых выплат ежегодно индексировался в соответствии с п. 11 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ.
Обращаясь с иском в суд, К., не оспаривая период, за который исчислялся размер среднемесячного заработка, а также размер заработной платы, указывал, что при назначении ежемесячной страховой выплаты его заработок в расчетном периоде с июня 1992 года по май 1993 года подлежит увеличению на повышающий коэффициент 3 в соответствии с п. 2 Правил возмещения работодателями вреда.
Разрешая спор и удовлетворяя заявленные К. исковые требования о перерасчете размера страховых выплат, взыскании недоплаченных страховых выплат и индексации, суд первой инстанции, ссылаясь на нормы ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ, а также разъяснения, изложенные в п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 марта 2011 г. N 2, исходил из того, что поскольку при исчислении ежемесячной страховой выплаты страховщиком учитывались суммы заработка К. за период до 31 января 1993 г. без применения повышающего коэффициента 3, то нарушено право истца на полное возмещение вреда здоровью, в связи с чем применил к заработку К. за период с июня 1992 года по май 1993 года указанный коэффициент.
Суд, полагая, что ежемесячные страховые суммы выплачивались К. в меньшем размере, чем гарантировалось законом, пришел к выводу о взыскании в пользу истца с ответчика недоплаты по ежемесячным страховым выплатам за период с 6 января 2000 г. по 28 февраля 2014 г. (в пределах заявленных исковых требований). При этом суд произвел индексацию недоплаченных сумм по ежемесячным страховым выплатам с учетом роста потребительских цен по соответствующему субъекту Российской Федерации.
С данным выводом суда первой инстанции и его обоснованием согласился и суд апелляционной инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала данные выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на неправильном толковании и применении норм материального права.
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ лицам, получившим до вступления в силу данного Федерального закона увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей и подтвержденные в установленном порядке, а также лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, обеспечение по страхованию производится страховщиком в соответствии с этим федеральным законом независимо от сроков получения увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья.
Устанавливаемое указанным лицам при вступлении названного федерального закона в силу обеспечение по страхованию не может быть ниже установленного им ранее в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения вреда, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей (п. 1 ст. 28 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ).
В силу п. 1 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячного заработка застрахованного до наступления страхового случая, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности.
В соответствии с п. 3 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ средний месячный заработок застрахованного подсчитывается путем деления общей суммы его заработка за 12 месяцев работы, предшествовавших наступлению страхового случая или утрате либо снижению его трудоспособности (по выбору застрахованного), на 12. По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по причине получения им профессионального заболевания средний месячный заработок может быть подсчитан за последние 12 месяцев работы, предшествовавших прекращению работы, повлекшей такое заболевание.
Пунктом 9 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ установлено, что исчисленная и назначенная ежемесячная страховая выплата в дальнейшем перерасчету не подлежит, за исключением случаев изменения степени утраты профессиональной трудоспособности, изменения круга лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, а также случаев индексации ежемесячной страховой выплаты.
Согласно подп. 2 п. 2 ст. 16 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ застрахованный обязан извещать страховщика об изменении места своего жительства или места работы, а также о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера получаемого им обеспечения по страхованию или утрату права на получение обеспечения по страхованию, в десятидневный срок со дня наступления таких обстоятельств.
Пунктом 10 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ (в редакции, действовавшей до 21 мая 2010 г.) предусматривалось, что в связи с повышением стоимости жизни суммы заработка, из которого исчисляется ежемесячная страховая выплата, увеличиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статьей 1 Федерального закона от 19 мая 2010 г. N 90-ФЗ «О внесении изменений в ст. 12 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее — Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 90-ФЗ) в п. 10 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ были внесены изменения, в соответствии с которыми суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, увеличиваются на соответствующий коэффициент в зависимости от года их получения. В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в уровне оплаты труда при исчислении размера ежемесячной страховой выплаты суммы заработка, полученные за период с 1 января 1992 по 31 января 1993 г., увеличиваются с учетом коэффициента 3.
Пунктом 2 ст. 2 Федерального закона от 19 мая 2010 г. N 90-ФЗ было установлено, что ежемесячные страховые выплаты, назначенные со дня вступления в силу Федерального закона от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», подлежат перерасчету с даты их назначения с учетом коэффициентов, установленных абзацами вторым-пятым п. 10 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Федеральный закон от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ вступил в силу 6 октября 2006 г.
Таким образом, п. 2 ст. 2 Федерального закона от 19 мая 2010 г. N 90-ФЗ приведенным выше положениям п. 10 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ (в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 г. N 90-ФЗ) придана обратная сила: они применяются для перерасчета ежемесячных страховых выплат, назначенных со дня вступления в силу Федерального закона от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ, то есть с 6 октября 2006 г.
Поскольку страховая выплата назначена К. до 6 октября 2006 г., оснований для перерасчета установленной ему ежемесячной страховой выплаты с момента ее назначения органом социального страхования (с 6 января 2000 г.) с учетом коэффициента 3 у суда не имелось, так как Федеральным законом от 19 мая 2010 г. N 90-ФЗ указаны конкретные условия перерасчета ранее назначенной ежемесячной страховой выплаты и действие этого закона не распространено на выплаты, назначенные до 6 октября 2006 г.
Кроме того, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ, а также иные нормативные правовые акты не содержат положений об обязании страховщика при приемке личного (учетного) дела пострадавшего, которому работодателем уже назначено возмещение вреда здоровью, производить перерасчет назначенных сумм возмещения вреда здоровью по нормам названного федерального закона.
При этом ежемесячная страховая выплата, назначенная ответчиком К. с 6 января 2000 г., ранее была рассчитана работодателем в соответствии с нормами действовавшего на тот момент законодательства, регулирующего возмещение вреда здоровью, причиненного работнику, а именно п. 11 Правил возмещения работодателями вреда.
Пунктом 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. N 4214-1 «Об утверждении правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждения здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей» устанавливалось, что в связи с повышением стоимости жизни суммы заработка, из которого исчисляются суммы возмещения вреда, рассчитанные с учетом коэффициентов, указанных в данном пункте, увеличиваются по увечьям, иным повреждениям здоровья, полученным до 1 января 1991 г., — в шесть раз, с 1 января 1991 г. по 31 января 1993 г. — в три раза.
Повреждение здоровья было получено К. 23 июня 1993 г. (после 31 января 1993 г.), следовательно, работодатель, исходя из действовавшего на момент назначения сумм возмещения вреда (на 16 февраля 1994 г.) законодательства, правомерно не применил к его заработной плате за период с июня 1992 года по май 1993 года коэффициент 3, что не было принято во внимание судами при разрешении спора.
Судебная коллегия признала необоснованной ссылку суда при разрешении спора на разъяснения, изложенные в п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 марта 2011 г. N 2 «О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Данные разъяснения касаются применения при назначении страховых выплат норм п. 10 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 г. N 90-ФЗ и Федерального закона от 9 декабря 2010 г. N 350, которые не подлежат применению к спорным отношениям по поводу перерасчета ежемесячных страховых выплат, назначенных впервые К. работодателем 16 февраля 1994 г.
Таким образом, с учетом того, что на дату назначения К. впервые сумм возмещения вреда здоровью (16 февраля 1994 г.) действовали Правила возмещения работодателями вреда, в соответствии с которыми и было осуществлено назначение ему страховых выплат работодателем, у суда не имелось правовых оснований для применения к уже назначенным страховым выплатам норм п. 10 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 г. N 90-ФЗ и увеличения заработка К., полученного им за период с июня 1992 года по 31 января 1993 г. включительно, на коэффициент 3 для исчисления сумм возмещения вреда.
Не имелось в данном случае и обстоятельств, которые в силу п. 9 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ могли бы повлечь перерасчет установленной К. ежемесячной страховой выплаты, что также не было учтено судом при разрешении спора.
Исходя из изложенного, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и, не передавая дело на новое рассмотрение, приняла новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований.
Определение N 81-КГ15-11
III. Процессуальные вопросы
3. Судебная защита гражданских прав, основанных на акте, действии органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, а также судебная защита гражданских прав, нарушенных актом, действием (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, осуществляется способами и в сроки, которые предусмотрены гражданским законодательством, и в процедуре, установленной процессуальным законом для разрешения споров о гражданских правах и обязанностях.
Е. обратилась в суд с иском к местной администрации о признании права собственности на долю земельного участка, сославшись на то, что является собственником 1/2 доли жилого дома, расположенного на спорном земельном участке. Собственником другой 1/2 доли дома является Б.
При рассмотрении дела по иску Б. к ней об устранении препятствий в пользовании земельным участком (решение от 13 сентября 2011 г.) ей стало известно о том, что весь земельный участок, находящийся под жилым домом, принадлежащим им на праве долевой собственности, зарегистрирован на праве собственности за Б., который, в свою очередь, приобрел этот участок у К. по договору купли-продажи (К. спорный земельный участок предоставлен на основании постановлений главы местной администрации, вынесенных в 2009 году). Истец полагала, что она в силу требований земельного законодательства имеет право на приобретение в собственность 1/2 доли земельного участка, которое нарушено ответчиками по делу.
Разрешая дело, суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, руководствовался ст. 256 ГПК РФ и исходил из того, что истцом пропущен трехмесячный срок для обжалования постановлений местной администрации, вынесенных в 2009 году, а требование Е. о признании права собственности на долю спорного земельного участка производно от требования о признании незаконными указанных постановлений, в связи с чем в иске отказал.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала данные судебные постановления вынесенными с существенным нарушением требований закона, указав следующее.
На основании подп. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности могут возникать из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения данных прав и обязанностей, а применительно к подп. 8 п. 1 указанной статьи — вследствие действий должностных лиц этих органов.
К законам, рассматривающим акты органов государственной власти, органов местного самоуправления и действия должностных лиц этих органов в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей, относится, в частности, Земельный кодекс Российской Федерации.
В п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 10 и п. 2 ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации (далее — ЗК РФ) предусматривается право органов государственной власти и органов местного самоуправления распоряжаться в пределах своей компетенции земельными участками, находящимися в собственности соответствующих публично-правовых образований.
Одновременно в п. 1 ст. 25 ЗК РФ закреплено положение о том, что право на земельный участок возникает по основаниям, установленным гражданским законодательством, одним из которых, согласно указанной выше норме Гражданского кодекса Российской Федерации, является акт (действие) государственного органа или акт (действие) органа местного самоуправления, должностного лица.
Указанные акты (действия) государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица являются формой реализации правомочий собственника по распоряжению принадлежащим ему имуществом уполномоченным на то лицом, поскольку в соответствии со ст. 125 ГК РФ в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, а в соответствии с п. 3 данной статьи в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, по их специальному поручению от их имени могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане.
Акт государственного органа или акт органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка, изданный этим органом в ходе реализации полномочий, установленных в п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 10 и п. 2 ст. 11 ЗК РФ, является основанием, в частности, для регистрации права собственности на земельный участок, которая подтверждает соответствующее гражданское право, основанное на данном акте.
Право на земельный участок на основании акта государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица приобретается и регистрируется гражданами и юридическими лицами своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ).
Защита гражданских прав, основанных на акте (действии) органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, а также защита гражданских прав, нарушенных актом, действием (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица должна осуществляться, соответственно, способами и в сроки, которые установлены гражданским законодательством, и в процедуре, установленной процессуальным законом для разрешения споров о гражданских правах и обязанностях.
В соответствии с абзацем шестым ст. 12 и ст. 13 ГК РФ признание судом акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным является одним из способов защиты гражданских прав.
Общий срок для защиты гражданских прав по иску лица, право которого нарушено (исковая давность), составляет три года (ст. 195, п. 1 ст. 196 ГК РФ).
Срок обращения с заявлением в суд, установленный ст. 256 ГПК РФ (три месяца), установлен для разрешения административных споров, обусловленных отношениями власти и подчинения.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, из права на судебную защиту не следует возможность выбора лицом по своему усмотрению той или иной процедуры судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и категориям дел определяются исходя из Конституции Российской Федерации федеральным законом.
Соответственно, и суд для обеспечения права на судебную защиту граждан и организаций не вправе произвольно выбирать для себя порядок судопроизводства, а обязан действовать по правилам процедуры, установленной законодательством для данного вида судопроизводства.
В актах, разрешающих дело по существу, суд определяет действительное материально-правовое положение сторон, то есть применяет нормы права к тому или иному конкретному случаю в споре о праве (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. N 8-П, постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 29-П, постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2010 г. N 1-П и другие).
Как разъяснено в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. N 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих», судам следует иметь в виду, что правильное определение ими вида судопроизводства, в котором подлежат защите права и свободы гражданина или организации, несогласных с решением, действием (бездействием) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, зависит от характера правоотношений, из которых вытекает требование лица, обратившегося за судебной защитой, а не от избранной им формы обращения в суд (например, подача заявления в порядке, предусмотренном главой 25 ГПК РФ, или подача искового заявления).
В силу прямого указания закона — ч. 3 ст. 247 ГПК РФ — в случае, если при подаче заявления в суд будет установлено, что имеет место спор о праве, подведомственный суду, судья оставляет заявление без движения и разъясняет заявителю необходимость оформления искового заявления с соблюдением требований ст. 131 и 132 данного кодекса. В случае если при этом нарушаются правила подсудности дела, судья возвращает заявление.
Из приведенных выше положений закона, конституционно-правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что предусмотренный гл. 25 ГПК РФ порядок рассмотрения заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, а соответственно, и предусмотренный ст. 256 данного кодекса срок для обращения в суд не подлежат применению в тех случаях, когда имеет место обращение в суд за защитой нарушенных или оспоренных гражданских прав.
По данному делу Е. обратилась с иском в суд о защите нарушенного, по ее мнению, субъективного гражданского права собственности на земельный участок, на котором находится принадлежащее ей на праве общей долевой собственности строение.
Требование о признании недействительными постановлений главы местной администрации является предусмотренным ст. 12 ГК РФ способом защиты гражданского права и было заявлено истцом наряду с другими исковыми требованиями в отношении предмета спора.
Применение судом предусмотренного ст. 256 ГПК РФ для административных споров трехмесячного срока для обращения в суд привело к незаконному отказу в защите гражданского права исключительно по мотиву пропуска этого срока.
На основании изложенного, поскольку судом неправильно применен закон, регулирующий возникшие правоотношения, Судебная коллегия признала обжалуемые судебные постановления незаконными и отменила их, а дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определение N 6-КГ15-5
4. Судебные расходы на оплату услуг представителя, понесенные третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, в связи с подачей апелляционной жалобы, возмещаются ему по общим правилам.
Решением суда удовлетворен иск Н. к местной администрации о признании права собственности на гараж, возведенный на земельном участке, принадлежащем Н. на праве собственности.
Апелляционная жалоба на указанное решение суда была подана Б. — лицом, не привлеченным к участию в деле, являющимся собственником смежного с участком Н. земельного участка.
Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований.
Б. обратился в суд с заявлением о взыскании с Н. понесенных им при рассмотрении данного дела расходов на оплату услуг представителя.
Определением районного суда, оставленным без изменения апелляционным определением, в удовлетворении заявления Б. отказано.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации удовлетворила кассационную жалобу Б., в которой он ставил вопрос об отмене судебных актов, по следующим основаниям.
Из ч. 1 ст. 43 ГПК РФ следует, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением ряда прав. В числе прав, которые не могут быть реализованы третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на предмет спора, право на возмещение судебных расходов не поименовано.
Согласно ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право обжаловать судебные постановления. Частью 3 ст. 320 ГПК РФ право подачи апелляционной жалобы предоставлено лицам, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом. При обжаловании судебного постановления третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, занимает активную позицию в процессе и защищает свои права, затронутые обжалуемым судебным актом.
В силу ч. 4 ст. 329 ГПК РФ в определении суда апелляционной инстанции указывается на распределение между сторонами судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционных жалобы.
Таким образом, из системного толкования указанных статей следует, что судебные расходы на оплату услуг представителя, понесенные третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, в связи с подачей апелляционной жалобы и ее удовлетворением подлежат возмещению.
Определение N 83-КГ15-4
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ
I. Разрешение споров, возникающих
из корпоративных правоотношений
1. В случае, если решение совета директоров о выплате гражданину, осуществлявшему полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества, компенсации в связи с досрочным расторжением с ним трудового договора или о размере этой компенсации привело к нарушению интересов акционерного общества и его участников, оно может быть признано недействительным по иску акционеров, заявленному в порядке реализации ими прав участников корпорации, предусмотренных ст. 65.2 ГК РФ.
На заседании совета директоров акционерного общества приняты решения о досрочном прекращении полномочий гражданина как единоличного исполнительного органа акционерного общества и о выплате ему единовременной компенсации в связи с прекращением трудового договора.
Ссылаясь на то, что решение о выплате компенсации принято с нарушением закона и устава акционерного общества, акционеры обратились в суд с иском к акционерному обществу о признании указанного решения недействительным.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что совет директоров необоснованно увеличил размер выплаченной компенсации, что нарушило баланс интересов участников корпоративных отношений и причинило вред обществу и его акционерам.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.
Арбитражный суд округа отменил судебные акты судов нижестоящих инстанций и отказал в удовлетворении исковых требований. Суд указал, что размер компенсации фактически согласован сторонами прекращенного трудового договора, а разрешение вопроса об убытках, причиненных обществу, не входило в предмет доказывания по делу.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного суда округа, оставила в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по следующим основаниям.
Определяя сумму компенсации, совет директоров фактически исчислил ее из максимально возможного вознаграждения единоличного исполнительного органа.
Однако по условиям трудового договора его вознаграждение состояло из фиксированной и переменной частей, последняя зависела от результата работы акционерного общества и личного вклада гражданина в достижение этого результата.
Подобный порядок установления руководителю акционерного общества вознаграждения, состоящего из двух составляющих (фиксированной и переменной), соответствует рекомендациям, изложенным в стандартах корпоративного поведения (п. 5.1.2 гл. 4 прежней редакции Кодекса корпоративного поведения, являющегося приложением к распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р, п. 4.3 ч. «А» действующей редакции Кодекса корпоративного управления, являющегося приложением к письму Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463).
Совет директоров, устанавливая компенсацию в твердом, максимально возможном размере, по сути, исключил необходимость учета личного (индивидуального) вклада гражданина в результаты работы акционерного общества в предшествующие прекращению его полномочий периоды, тем самым нивелировав стимулирующее воздействие переменной части вознаграждения гражданина.
В процессе установления данной компенсации сталкиваются интересы менеджмента и акционеров.
Конституция Российской Федерации закрепляет принцип, согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (часть 3 статьи 17).
Поэтому, определяя размер компенсации, совет директоров не мог действовать произвольно. Он должен был исходить из предназначения компенсации как адекватной гарантии защиты бывшего руководителя от негативных последствий, наступивших в результате потери работы. Одновременно с этим на совете директоров лежала обязанность по соблюдению баланса интересов, с одной стороны, упомянутого руководителя, расторжение трудового договора с которым не было связано с его противоправным поведением, с другой стороны, акционеров, чьи инвестиционные интересы нарушаются выплатой явно завышенной и необоснованной компенсации.
Для установления выплаты, не вытекающей из буквального значения условий трудового договора, совету директоров, осуществляющему стратегическое управление обществом и контролирующему деятельность исполнительных органов (п. 1 ст. 64, ст. 65, п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), следовало представить веские обоснования и раскрыть акционерам информацию о причинах ее назначения, обеспечив прозрачность расчетов и четко разъяснив применяемые подходы и принципы.
Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и не опровергнуто арбитражным судом округа, в данном случае компенсация являлась чрезмерной.
При таких обстоятельствах судами первой и апелляционной инстанций на основании п. 6 ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обоснованно удовлетворен иск акционеров.
Определение N 307-ЭС14-8853
II. Разрешение споров, возникающих
из обязательственных правоотношений
2. При определении стоимости услуг по передаче электрической энергии потребитель услуг и сетевая организация (исполнитель услуг) не вправе самостоятельно изменять величины ставок тарифов, указанных в правовом акте, которым утвержден тариф.
Во исполнение договора сетевая организация (исполнитель) оказала гарантирующему поставщику (заказчику) услуги по передаче электрической энергии до точек поставки потребителей гарантирующего поставщика, энергопринимающие устройства которых присоединены к электросетям сетевой компании через объекты по производству электрической энергии.
Между сторонами возникли разногласия по тарифу, подлежащему применению в расчетах стоимости услуг, оказанных в отношении потребителей. Сетевая компания применила одноставочный тариф, утвержденный приказом Управления по государственному регулированию тарифов субъекта Российской Федерации. Гарантирующий поставщик рассчитал стоимость услуг по тому же одноставочному тарифу, самостоятельно исключив из него цену нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях сетевой компании (далее — усеченный тариф).
Сетевая компания обратилась в суд с иском к гарантирующему поставщику о взыскании задолженности по оплате услуг, размер которой составлял разницу между одноставочным и усеченным тарифом.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении исковых требований отказано. Суды исходили из того, что гарантирующий поставщик должен рассчитываться с сетевой компанией по тому варианту тарифа, который выбрали его потребители, то есть по одноставочному тарифу. Кроме того, статус потребителей обусловлен особенностями технологического присоединения энергопринимающего оборудования к сетям сетевой компании и позволял им не оплачивать ставку на оплату технологического расхода (потерь) в сетях. Ввиду изложенного в расчетах сторон следует применять усеченный тариф.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила указанные судебные акты, дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.
Стоимость услуг по передаче электроэнергии подлежит государственному ценовому регулированию (п. 1 ст. 424 ГК РФ, ст. 4 и 6 Федерального закона от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ «О естественных монополиях», п. 4 ст. 23.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее — Закон об электроэнергетике)).
Как следует из абзацев 11 — 15 п. 81 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 442, по общему правилу право выбора тарифа на услуги по передаче электроэнергии на период регулирования предоставляется потребителям. Тарифы устанавливаются одновременно в одноставочном и двухставочном вариантах. В последнем случае одна ставка отражает удельную величину расходов на содержание электрических сетей, другая — используется для возмещения расходов на оплату нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях. Одноставочный тариф определяется на основе ставок двухставочного тарифа и устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. N 20-э/2 (далее — Методические указания), в расчете на один киловатт-час электрической энергии.
Из положений Методических указаний следует, что возможность выбора тарифа на услуги по передаче электроэнергии предопределяется условиями технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя. Потребители на генераторном напряжении должны оплачивать эти услуги по ставке на содержание сетей, которая устанавливается исключительно в двухставочном тарифе. Полномочиями по утверждению тарифа наделены органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Субъекты электроэнергетики обязаны применять тарифы в соответствии с решениями регулирующих органов и не вправе самостоятельно их изменять.
Доводы ответчика о том, что обязательства гарантирующего поставщика перед сетевой компанией обусловлены выбором его потребителей, несостоятельны, так как выбор потребителей ограничивается нормативными предписаниями, обязательными к применению в отношениях между всеми субъектами электроэнергетики.
Таким образом, выводы судов о правомерности применения в расчетах между сторонами спора усеченного тарифа, предложенного гарантирующим поставщиком, противоречит ст. 424 ГК РФ, п. 4 ст. 23.1 Закона об электроэнергетике, п. 55 Методических указаний.
Определение N 310-ЭС14-8432
3. Выбор варианта тарифа при оплате стоимости услуг по передаче электроэнергии предопределяется условиями технологического присоединения электросетей.
Между сетевой и сбытовой компаниями заключен договор возмездного оказания услуг по передаче электроэнергии по сетям сетевой компании до энергопринимающих устройств предприятия (потребителя).
Сетевая компания отрицала факт присоединения предприятия к своим сетям через энергетические установки производителя электроэнергии и рассчитала стоимость услуг исходя из тарифов, предусмотренных для каждого из уровней напряжения, на котором осуществлено присоединение предприятия (высокого — ВН и среднего — СН-1), а также величин мощности на этих уровнях.
Сбытовая компания настаивала на присоединении предприятия к сетевой компании через энергетические установки производителя электроэнергии и оплатила стоимость услуг по тарифу, установленному для наиболее высокого уровня напряжения (ВН), на котором присоединены сети сетевой компании к производителю, и всего суммарного объема мощности.
Ссылаясь на данные обстоятельства, сетевая компания обратилась в суд с иском к сбытовой компании о взыскании задолженности за оказанные услуги, размер которой составила разница в расчетах, примененных сторонами.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано.
Арбитражный суд округа своим постановлением отменил названные судебные акты и удовлетворил исковые требования.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации оставила постановление арбитражного суда округа без изменения по следующим основаниям.
Из системного толкования п. 1 ст. 424 ГК РФ, ст. 4 и 6 Федерального закона от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ «О естественных монополиях», п. 4 ст. 23.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пп. 6, 46 — 48 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 и п. 81 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178, следует, что вариант тарифа, применяемый на услуги по передаче электроэнергии, императивно установлен законодательством и предопределен условиями технологического присоединения сетей.
Оплата ставки за содержание сетей согласно п. 55 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. N 20-э/2, обусловлена составом электросетевого оборудования сетевой компании, участвующим реально или потенциально в передаче электроэнергии, и тем, что сетевая организация не несет расходов на передачу электроэнергии и на ее трансформацию на пониженные уровни напряжения, так как трансформация происходит на энергетических установках производителя.
Для разрешения данного спора определяющее значение имеют следующие признаки:
— опосредованность присоединения энергопринимающих устройств потребителя к сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электроэнергии;
— уровень напряжения, на котором энергетические установки производителя электроэнергии присоединены к сетям сетевой организации по напряжению станции наиболее высокого уровня.
Судебными актами по другому делу, рассмотренному по спору между теми же лицами о взыскании задолженности за другой временной период на основании анализа документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств предприятия к сетям сетевой компании, а также актов первичного учета электроэнергии, отпускаемой производителем электроэнергии в энергосистему соответствующей территории, которыми сетевая компания подтвердила возможность перетока электроэнергии среднего уровня напряжения из сетей сетевой компании в энергопринимающие устройства предприятия минуя энергетические установки производителя электроэнергии, установлен факт отсутствия присоединения потребителя через энергетические установки производителя электроэнергии.
В судебном заседании представители предприятия подтвердили, что схема технологического присоединения энергопринимающих устройств и электросетей сторон не менялась.
В соответствии с п. 2 ст. 69 АПК РФ данные обстоятельства не подлежали доказыванию вновь при рассмотрении арбитражными судами настоящего дела, в котором участвуют те же лица.
Документами о технологическом присоединении и актами первичного учета электроэнергии, отпускаемой производителем электроэнергии в энергосистему региона, сетевая компания подтвердила возможность перетока электроэнергии среднего уровня напряжения из сетей сетевой компании в энергопринимающие устройства предприятия минуя энергетические установки производителя электроэнергии, что позволило опровергнуть факт присоединения потребителя через энергетические установки производителя электроэнергии.
В связи с этим арбитражный суд округа правомерно удовлетворил иск.
Определение N 305-ЭС14-240
4. Поставка товара, выполнение работ или оказание услуг в целях удовлетворения государственных или муниципальных нужд, в отсутствие государственного или муниципального контракта, не порождают у исполнителя право требовать оплаты соответствующего предоставления, за исключением случаев, когда законодательство предусматривает возможность размещения государственного или муниципального заказа у единственного поставщика.
Общество на основании доверенностей, выданных администрацией муниципального образования, оказало последнему услуги по представительству его интересов в суде.
Договор в письменной форме сторонами не заключался.
Ссылаясь на то, что администрация не оплатила оказанные услуги, общество обратилось в суд с иском о взыскании стоимости услуг как неосновательного обогащения.
Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. Суд исходил из того, что администрацией получено исполнение от общества, а следовательно, она должна осуществить встречное предоставление.
Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда округа, отменено решение суда первой инстанции и отказано в удовлетворении исковых требований.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации оставила постановления суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа без изменения по следующим основаниям.
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе), а также пп. 1 и 2 ст. 72 БК РФ государственные органы, органы управления внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, казенные учреждения и иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов могут вступать в договорные отношения только посредством заключения государственного и муниципального контракта. Государственный и муниципальный контракты размещаются на конкурсной основе и в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Оказывая услуги без наличия муниципального контракта, заключение которого является обязательным в соответствии с нормами названного закона, общество не могло не знать, что работы выполняются им при отсутствии обязательства.
Следовательно, в силу п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежит взысканию плата за фактически оказанные услуги для государственных и муниципальных нужд в отсутствие заключенного государственного или муниципального контракта.
Иной подход допускал бы поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в обход норм Закона о контрактной системе (ст. 10 ГК РФ).
Вместе с тем в соответствии со ст. 93 Закона о контрактной системе возможно размещение заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в случаях, когда проведение предусмотренных законом конкурсных процедур было нецелесообразно в силу значительных временных затрат. К таким случаям могут быть отнесены закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме, в том числе при заключении федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера).
На основании этой нормы обстоятельствами, свидетельствующими о невозможности в конкретной ситуации заключить государственный или муниципальный контракт в установленном порядке, также являются случаи, в которых поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг является обязательным для соответствующего исполнителя вне зависимости от волеизъявления сторон правоотношения, в связи с чем он не мог отказаться от выполнения данных действий даже в отсутствие государственного или муниципального контракта или истечения срока его действия.
При наличии указанных обстоятельств у исполнителя возникает право требования вознаграждения, которое может быть взыскано в судебном порядке.
В рассматриваемом деле оказанные обществом услуги не являлись ни социально значимыми, ни необходимыми.
Определение N 309-ЭС15-26
III. Процессуальные вопросы
5. Если действия третьего лица привели к увеличению судебных расходов других лиц, участвующих в деле, на нем лежит обязанность их возмещения в соответствующей части.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам судебных актов по делу по иску общества о признании незаконным решения Роспатента.
В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена фирма, на основе возражений которой принято оспариваемое решение Роспатента.
Решением суда первой инстанции отменен ранее принятый по делу судебный акт и назначено предварительное заседание для нового рассмотрения дела.
Указанное решение обжаловалось фирмой в суды апелляционной и кассационной инстанций, которыми данный судебный акт оставлен без изменения.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции и постановлением Суда по интеллектуальным правам, заявление общества удовлетворено, с Роспатента в пользу общества взысканы судебные расходы.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты в части взыскания судебных расходов, направила дело в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.
В настоящем деле Роспатент (ответчик) не возражал против удовлетворения заявления общества об отмене судебных актов по делу по новым обстоятельствам. Часть судебных расходов возникла у общества в результате действий фирмы по обжалованию решения об отмене ранее принятого по делу судебного акта, поскольку судебные заседания суда первой инстанции для рассмотрения дела по существу спора в связи с этим неоднократно откладывались.
Системное толкование ст. 40, 101, 110 АПК РФ предполагает включение в состав субъектов отношений по возмещению судебных расходов не только сторон соответствующего спора, но и иных лиц, к которым в числе прочих относятся третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.
Получив возможность пользоваться процессуальными правами, третье лицо принимает на себя и процессуальные обязанности, одной из которых является обязанность по возмещению судебных расходов.
Таким образом, у судов не имелось основания для взыскания всех судебных расходов общества с Роспатента и освобождения фирмы от обязанности по возмещению судебных расходов истца в той мере, в которой она способствовала их возникновению.
Иное толкование могло бы привести к необоснованному обжалованию судебных актов третьими лицами без несения риска соответствующих неблагоприятных последствий.
Определение N 305-ЭС14-6827
IV. Практика рассмотрения дел, возникающих
из административных и иных публичных отношений
6. При возврате излишне взысканных в принудительном порядке таможенных платежей на сумму таких платежей начисляются проценты со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата независимо от того, соблюден ли таможенным органом месячный срок возврата указанных денежных средств
В отношении общества таможенным органом принято решение о корректировке таможенной стоимости ввезенных товаров и зачете денежных средств, предоставленных ранее в качестве денежного залога, в счет погашения задолженности по уплате таможенных платежей.
По заявлению общества решением суда по другому делу указанное решение таможенного органа признано незаконным.
В течение месяца после подачи обществом заявления о возврате излишне взысканных таможенных платежей таможенный орган вернул денежные средства обществу.
Общество обратилось в суд с иском к таможенному органу о взыскании процентов, начисляемых в порядке, установленном ч. 6 ст. 147 Федерального закона от 27 октября 2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее — Закон о таможенном регулировании), на сумму излишне взысканных таможенных платежей.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены. Суды исходили из того, что, поскольку таможенные платежи взысканы таможенным органом в принудительном порядке, то в силу ч. 6 ст. 147 Закона о таможенном регулировании при возврате излишне взысканных в соответствии с положениями гл. 18 данного закона таможенных пошлин, налогов проценты на их сумму начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата.
Арбитражный суд округа своим постановлением отменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и отказал в удовлетворении исковых требований. Суд пришел к выводу, что проценты на сумму излишне взысканных таможенных платежей не начисляются, если возврат денежных средств осуществлен с соблюдением установленного в ч. 6 ст. 147 Закона о таможенном регулировании месячного срока возврата.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставила без изменения по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 6 ст. 147 Закона о таможенном регулировании возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов производится по решению таможенного органа, который осуществляет администрирование данных денежных средств. Общий срок рассмотрения заявления о возврате, принятия решения о возврате и возврата сумм излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов не может превышать один месяц со дня подачи заявления о возврате и представления всех необходимых документов. При нарушении указанного срока на сумму излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов, не возвращенную в установленный срок, начисляются проценты за каждый день нарушения срока возврата. При возврате излишне взысканных в соответствии с положениями гл. 18 данного закона таможенных пошлин, налогов проценты на сумму излишне взысканных таможенных пошлин, налогов начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата. Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период нарушения срока возврата.
Из буквального толкования положений приведенной нормы следует, что в случае возврата таможенных платежей, излишне взысканных в принудительном порядке, проценты подлежат начислению в любом случае, независимо от того, был нарушен таможенным органом месячный срок возврата подобных таможенных платежей или нет.
Указанная мера является дополнительной гарантией защиты прав граждан и юридических лиц от незаконных действий (бездействия) органов государственной власти и направлена на реализацию принципа охраны частной собственности (ч. 1 ст. 35, ст. 52 и 53 Конституции Российской Федерации).
Определение N 303-КГ14-7912
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ
1. Действующее законодательство не наделяет нотариуса полномочиями по выдаче документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации.
С. обратился в суд с заявлением, в котором просил обязать территориальный орган Федеральной миграционной службы (далее — заинтересованное лицо) произвести его регистрацию по месту пребывания.
В обоснование заявления указал, что является гражданином Российской Федерации, по религиозным убеждениям не желает оформлять и получать паспорт гражданина Российской Федерации, однако у него имеется выданное нотариусом свидетельство об удостоверении тождественности лица, изображенного на фотографической карточке (далее — свидетельство), которое следует считать документом, удостоверяющим личность. Заинтересованным лицом отказано в осуществлении регистрационного учета в связи с непредставлением паспорта гражданина Российской Федерации, при этом указано, что свидетельство не может рассматриваться в качестве документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации.
Решением районного суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, требования С. удовлетворены.
Суды исходили из того, что паспорт гражданина Российской Федерации не является единственным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, и его отсутствие не может служить основанием для ограничения предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина, в связи с этим представленное С. свидетельство является документом, удостоверяющим его личность.
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации названные судебные акты отменила и приняла новое решение об отказе в удовлетворении заявления С. по следующим основаниям.
Статья 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» предусматривает, что граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. При регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации граждане Российской Федерации представляют заявления по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и иные документы, предусмотренные названным законом и правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации утверждаются Правительством Российской Федерации.
Согласно п. 5 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713, документами, удостоверяющими личность граждан Российской Федерации, необходимыми для осуществления регистрационного учета, являются: паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство о рождении — для лиц, не достигших 14-летнего возраста; паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, — для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации.
В силу п. 1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 828, паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате предусматривают, что нотариус удостоверяет тождественность личности гражданина с лицом, изображенным на представленной этим гражданином фотографии. При совершении нотариального действия нотариус устанавливает личность обратившегося за совершением нотариального действия гражданина на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия (ст. 84, 42).
Закон не относит нотариуса к числу органов государственной власти или должностных лиц, наделенных в установленном порядке полномочиями по выдаче документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, в связи с этим свидетельство об удостоверении тождественности лица, изображенного на фотографической карточке, не может рассматриваться в качестве такого документа.
Паспорт гражданина Российской Федерации не является единственным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, однако это обстоятельство не позволяет гражданину произвольно, по своему усмотрению представлять тот или иной документ в качестве удостоверяющего личность.
Судебная коллегия также указала, что С. не лишен возможности получить временное удостоверение личности, выдаваемое уполномоченным органом при утрате паспорта гражданина Российской Федерации. Такой документ не является паспортом, но признается надлежащим документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, в том числе и при осуществлении регистрационного учета.
При таких обстоятельствах оснований для признания незаконным отказа территориального органа Федеральной миграционной службы в регистрации С. по месту пребывания в связи непредставлением документа, удостоверяющего личность, не имелось.
Определение N 86-КГ15-5
2. Соответствие критериям, определенным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, является основанием для включения гражданина в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
Решением уполномоченного органа субъекта Российской Федерации К. отказано во включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (далее — Реестр), по причине несоответствия заявителя критериям отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших, утвержденным приказом Минрегиона России от 20 сентября 2013 г. N 403 (далее — Критерии).
К. обратился суд с заявлением о признании этого решения незаконным, возложении на уполномоченный орган обязанности включить его в Реестр.
Решением районного суда требования К. удовлетворены. Суд установил, что заявитель соответствует Критериям, поскольку застройщик, привлекший денежные средства К. для строительства многоквартирного дома, просрочил исполнение своих обязательств более чем на девять месяцев, строительство секции жилого дома, в котором расположена квартира, являвшаяся предметом договора долевого участия в строительства, не велось, квартира в собственность К. не передана, при этом оплата по указанному договору произведена К. в полном объеме. Денежные средства, уплаченные К. в соответствии с условиями договора, впоследствии взысканы с общества решением суда, однако общество признано банкротом, денежные средства К. до настоящего времени не получены.
Суд апелляционной инстанции указанное решение суда отменил, принял новое решение об отказе в удовлетворении заявления, указав, что К. не относится к числу пострадавших лиц — граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, поскольку право требования исполнения обязательств по передаче ему квартиры им утрачено.
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила судебный акт суда апелляционной инстанции и оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 7 ст. 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» контролирующий орган признает в соответствии с установленными уполномоченным органом критериями граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведет реестр таких граждан.
Приказом Минрегиона России от 20 сентября 2013 г. N 403 утверждены Критерии, а также правила ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
Критериями отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших является просрочка исполнения перед гражданином обязательств по сделке, предусматривающей привлечение денежных средств гражданина для строительства многоквартирного дома застройщиком или иным лицом, привлекшим денежные средства гражданина для строительства многоквартирного дома, более чем на девять месяцев (в том числе по незаключенным договорам или недействительным сделкам, обязательства по которым со стороны гражданина исполняются (исполнены) (п. 3 ч. 2 Критериев).
Судом установлено, что между К. и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор долевого участия в строительстве, по условиям которого общество взяло на себя обязательство по строительству многоквартирного жилого дома и передаче К. в установленный срок жилого помещения. Оплата по договору произведена К. в полном объеме, однако общество принятые на себя обязательства не исполнило, просрочка исполнения обязательств составила более девяти месяцев.
Заочным решением суда указанный договор долевого участия в строительстве был признан незаключенным, с общества в пользу К. взысканы уплаченные по договору денежные средства.
Решением арбитражного суда общество признано банкротом, определением этого суда К. включен в реестр требований кредиторов общества.
Вместе с тем до настоящего времени взысканные судом с общества денежные средства К. получены не были.
При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о том, что правовые основания для отказа в удовлетворении заявления К. отсутствовали. То обстоятельство, что договор долевого участия в строительстве впоследствии признан судом незаключенным, правового значения для разрешения дела не имеет, поскольку исходя из приведенных выше норм просрочка исполнения перед гражданином обязательств по сделке, в том числе по незаключенным договорам, более чем на девять месяцев является критерием отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших.
Определение N 46-КГ15-15
3. Определение оснований, порядка, размера и условий предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан относится к полномочиям субъекта Российской Федерации.
Законодательным Собранием Еврейской автономной области 30 мая 2011 г. принят Закон N 939-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Еврейской автономной области» (далее — Закон N 939-ОЗ), действие которого распространяется в том числе на проживающих на территории Еврейской автономной области ветеранов труда.
Часть 4 ст. 2 этого закона предусматривает, что порядок финансирования и предоставления социальных услуг, мер социальной поддержки и выплаты компенсаций, порядок начисления и осуществления ежемесячной денежной выплаты определяются правительством области.
Меры социальной поддержки, установленные названным законом, финансируются из средств областного бюджета (п. 1 ст. 13 Закона N 939-ОЗ).
Абзацем первым ст. 12 Закона N 939-ОЗ предусмотрено право приобретения единого социального проездного билета, дающего право на проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в границах населенных пунктов, а также от границ города Биробиджана и районных центров на расстояние до 50 километров включительно лицам, меры социальной поддержки которых установлены этим законом.
Постановлением правительства Еврейской автономной области от 17 августа 2007 г. N 231-пп утверждено Положение о едином социальном проездном билете на территории Еврейской автономной области, п. 1 которого определено, что названный билет действителен при предъявлении гражданином удостоверения, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области. В обращение введено две формы единого социального проездного билета, содержащего книжку контрольных талонов в количестве 70 штук либо 50 штук с соответствующим уровнем защиты от фальсификации. Соответствующим нормативным правовым актом также утверждена стоимость единого социального проездного билета для проезда автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) на территории Еврейской автономной области и установлена номинальная стоимость одного контрольного талона единого социального проездного билета.
Законом Еврейской автономной области от 29 октября 2014 г. N 595-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Еврейской автономной области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Еврейской автономной области», вступившим в силу 1 декабря 2014 г., ст. 12 дополнена абзацем третьим, согласно которому право приобретения единого социального проездного билета, содержащего книжку контрольных талонов в количестве 50 штук либо 70 штук с соответствующим уровнем защиты от фальсификации, предоставляется гражданам один раз в месяц независимо от того, воспользовался ли гражданин данным правом в прошедшем периоде.
Прокурор Еврейской автономной области обратился в суд с заявлением о признании абзаца третьего ст. 12 Закона N 939-ОЗ противоречащим федеральному законодательству и недействующим в части ограничения количества поездок ветеранов труда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в границах населенных пунктов, а также от границ города Биробиджана и районных центров на расстояние до 50 километров включительно, полагая, что такое правовое регулирование уменьшает объем предоставляемых указанным лицам мер социальной поддержки.
Решением суда Еврейской автономной области в удовлетворении требований прокурора отказано. Суд исходил из того, что оспариваемое нормативное положение не противоречит федеральному законодательству, принято уполномоченным органом и не нарушает прав, свобод и законных интересов отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов труда.
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации указанное решение суда оставила без изменения, указав следующее.
Правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе, установлены Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах». При этом данным законом не предусмотрена такая мера социальной поддержки ветеранов, в том числе ветеранов труда, как бесплатный проезд на городском и пригородном автомобильном транспорте.
В силу п. 2 ст. 10, ст. 22 названного федерального закона меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 г., определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами субъекта Российской Федерации.
Согласно ст. 12 Закона N 939-ОЗ, действие которого распространяется в том числе на проживающих на территории Еврейской автономной области ветеранов труда, лицам, меры социальной поддержки которых установлены этим законом, предоставляется право приобретения единого социального проездного билета, дающего право на проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в границах населенных пунктов, а также от границ города Биробиджана и районных центров на расстояние до 50 километров включительно.
В соответствии с подп. 12 и 24 п. 2, пп. 3.1 и 5 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится в том числе решение вопросов организации транспортного обслуживания населения, социальной поддержки ветеранов труда и др.
В соответствии со ст. 26.3-1 названного федерального закона органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том числе исходя из установленных законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия в федеральных законах предписаний, устанавливающих указанное право.
В силу положений ст. 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации установление и исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации относятся к бюджетным полномочиям названного публично-правового образования. При этом органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе самостоятельно определять направления расходования денежных средств своего бюджета (ст. 31 Кодекса).
Пунктом 2 ст. 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что расходные обязательства субъекта Российской Федерации устанавливаются органами государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников покрытия субъекта Российской Федерации.
Таким образом, меры социальной поддержки, принимаемые с целью обеспечения равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, являются дополнительными мерами социальной поддержки, в связи с этим определение оснований, порядка, размера и условий их реализации относится к полномочиям субъекта Российской Федерации и зависит от финансовых возможностей его бюджета.
Суд установил, что объем денежных средств на финансирование указанных мер социальной поддержки не только не снижен, но и ежегодно увеличивается.
При таких обстоятельствах оспариваемые положения закона субъекта Российской Федерации действующему федеральному законодательству не противоречат, прав, свобод и законных интересов указанных прокурором лиц не нарушают.
Определение N 65-АПГ15-2
Практика применения Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
4. Назначенное иностранному гражданину наказание изменено путем исключения административного выдворения за пределы Российской Федерации, поскольку данный гражданин на момент рассмотрения дела обратился в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении ему статуса беженца или временного убежища на территории Российской Федерации, по итогам рассмотрения которого ему выдано свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу.
Постановлением судьи районного суда от 10 декабря 2013 г., оставленным без изменения постановлением заместителя председателя областного суда от 15 января 2015 г., иностранный гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 2000 руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Из материалов дела об административном правонарушении следует, что иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию в целях обучения в медицинской академии и был отчислен в октябре 2013 года, оформил транзитную визу для выезда из Российской Федерации, однако по окончании срока пребывания из Российской Федерации не выехал, с 19 октября 2013 г. продолжив проживать в Российской Федерации без постановки на миграционный учет, без документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации на законных основаниях.
Рассматривая поданную в Верховный Суд Российской Федерации жалобу лица, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном правонарушении, судья Верховного Суда Российской Федерации с учетом конкретных обстоятельств данного дела усмотрел основания для изменения обжалуемого постановления в части назначенного наказания.
В силу ст. 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать (refouler) или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток.
Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания».
В ходе производства по делу иностранный гражданин неоднократно заявлял о том, что опасается покидать территорию Российской Федерации в связи с угрозой его жизни и здоровью ввиду ведения на территории Государства Палестина военных действий и сложившейся там нестабильной политической обстановки.
Посольство Государства Палестина в октябре 2013 года сообщило о том, что возвращение в Государство Палестина возможно только через территорию Египта.
В ноябре 2013 года иностранный гражданин обратился в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении ему статуса беженца или временного убежища на территории Российской Федерации.
Между тем свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу было выдано иностранному гражданину лишь в марте 2015 года.
Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 «О беженцах» (далее — Закон о беженцах) определяет порядок признания лица беженцем.
Согласно пункту 7 Закона о беженцах свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу является документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании беженцем. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу является основанием для регистрации в установленном порядке лица, ходатайствующего о признании беженцем, и членов его семьи в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, на срок рассмотрения данного ходатайства по существу.
При таких обстоятельствах, с учетом приведенных выше норм Закона о беженцах и конкретных обстоятельств дела состоявшиеся по делу судебные акты изменены в части назначенного наказания путем исключения из них указания на назначение иностранному гражданину административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации.
Постановление N 14-АД15-3
5. При рассмотрении дела суду не были представлены доказательства, бесспорно свидетельствующие о том, что иностранный гражданин фактически не осуществлял на территории Российской Федерации деятельность, соответствующую заявленной цели въезда, поэтому судебные акты по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ, отменены, производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены обжалуемые судебные постановления.
Постановлением судьи районного суда от 9 сентября 2014 г., оставленным без изменения решением судьи областного суда от 9 октября 2014 г. и постановлением заместителя областного суда от 30 марта 2015 г., иностранный гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 5000 руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации в виде контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации.
Согласно ст. 24 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено названным федеральным законом, международными договорами Российской Федерации или указами Президента Российской Федерации.
Разрешая данное дело, судья районного суда назначил иностранному гражданину административное наказание за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ, установив, что иностранный гражданин в период пребывания в Российской Федерации осуществлял благотворительную деятельность, не соответствующую заявленной цели въезда в Российскую Федерацию («деловая»), и отметив, что ранее названный гражданин привлекался к административной ответственности на основании ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ. Вышестоящие судебные инстанции с этим выводом согласились.
Вместе с тем вывод о совершении иностранным гражданином указанного административного правонарушения не нашел объективного подтверждения в материалах дела.
Из материалов дела об административном правонарушении следует, что иностранному гражданину выдана многократная виза с указанием цели поездки «деловая».
Между тем из протокола об административном правонарушении и обжалуемых судебных актов не следует, что в период пребывания на территории Российской Федерации иностранный гражданин фактически не осуществлял деятельность, соответствующую заявленной им цели въезда.
В обжалуемых судебных актах не установлено, какие действия иностранного гражданина квалифицированы в качестве благотворительной деятельности, в материалы дела доказательства данного вывода миграционного органа и судебных инстанций не представлены.
В силу положений чч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
При таких обстоятельствах судебные акты, вынесенные в отношении иностранного гражданина по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ, отменены, а производство по делу прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены обжалуемые судебные постановления.
Постановление N 83-АД15-4
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
1. Увольнение военнослужащего в порядке дисциплинарного взыскания — досрочного увольнения с военной службы в связи с невыполнением условий контракта — не требует проведения в отношении его аттестации.
Апелляционным определением Ленинградского окружного военного суда от 14 ноября 2013 г. отменено решение Петрозаводского гарнизонного военного суда от 18 июля 2013 г. об отказе в удовлетворении заявления О., в котором он просил признать незаконным приказ Министра обороны Российской Федерации от 29 сентября 2013 г. о досрочном увольнении его с военной службы в запас в связи с невыполнением условий контракта о прохождении военной службы (подп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).
По делу судом апелляционной инстанции принято новое решение об удовлетворении заявления.
В кассационной жалобе представитель Министра обороны Российской Федерации просил об отмене апелляционного определения и оставлении в силе решения гарнизонного военного суда, ссылаясь на ошибочность вывода суда апелляционной инстанции о том, что основанием для досрочного увольнения заявителя в связи с невыполнением условий контракта явилось заключение аттестационной комиссии, а не представление командующего войсками военного округа, основанное на проведенном разбирательстве по факту грубого нарушения заявителем установленных правил производства полетов и порядка выполнения полетного задания, что привело к крушению самолета.
Рассмотрев материалы гражданского дела и обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по делам военнослужащих отменила апелляционное определение ввиду существенного нарушения норм материального права, выразившегося в следующем.
Признавая незаконным оспариваемый заявителем приказ, окружной военный суд указал в апелляционном определении на непредставление заинтересованным лицом доказательств по соблюдению процедуры аттестации О., предшествовавшей его досрочному увольнению в запас.
Между тем из материалов дела следует, что поводом к досрочному увольнению О. с военной службы в связи с невыполнением условий контракта явились не результаты аттестации заявителя, а грубое нарушение им 28 июня 2012 г. установленных правил производства полетов и порядка выполнения полетного задания, что привело к тяжким последствиям — крушению военного самолета, то есть совершение дисциплинарного проступка.
Совершение заявителем названного проступка установлено в ходе разбирательства, проведенного комиссией Департамента (Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации) с утверждением результатов разбирательства 3 августа 2012 г. ее руководителем.
Согласно исследованному в судебном заседании акту расследования аварии самолета командир авиационной группы гвардии полковник О., ответственный 28 июня 2012 г. за организацию полетов, в нарушение требований нормативных документов довел до сведения руководителя полетами на аэродроме информацию о том, что воздушную разведку погоды он будет выполнять лично вместо допущенного к выполнению этого задания летчика с ведением радиообмена от имени этого лица. После этого О. без прохождения предполетного медицинского контроля занял рабочее место в самолете вместе с генералом-майором Б., который специальную подготовку к полетам на этом типе самолетов не проходил и зачеты по знанию и порядку его эксплуатации не сдавал.
Во время полета заявителем были допущены совмещение воздушной разведки погоды с выполнением другого полетного задания и передача управления самолетом Б., с которым тот не справился во время выполнения пространственного маневра по типу фигуры высшего пилотажа, в результате чего самолет перешел в перевернутый штопор и разбился.
Причинами аварии, согласно выводам разбирательства, явились в том числе непринятие заявителем мер к предотвращению нарушений в комплектовании экипажа воздушного разведчика погоды; низкая принципиальность и личная недисциплинированность, выразившиеся в передаче им управления самолетом лицу, не имеющему допуска к полетам на данном типе воздушных судов; выполнение фигуры высшего пилотажа экипажем, не обладающим необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками.
Результаты разбирательства впоследствии были подтверждены в рамках расследования уголовного дела заключением эксперта, согласно которому О. в нарушение требований п. 31 Федеральных авиационных правил производства полетов государственной авиации и в силу низкой принципиальности допустил изменение запланированного полетного задания, передал должностному лицу, не имеющему допуска к полетам, управление воздушным судном.
Кроме того, согласно постановлению об отказе в возбуждении в отношении О. уголовного дела по материалам проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 351 УК РФ, установлена вина заявителя в наступлении последствий, связанных с аварией самолета, в форме неосторожности.
О том, что он не задумывался о последствиях своего проступка, а также о том, что он не стал проявлять принципиальность и выяснять наличие у Б. допуска к полетам на указанном типе воздушного судна, О. дал показания и в судебном заседании в ходе допроса в качестве свидетеля при рассмотрении уголовного дела в отношении Б., что усматривается из приговора Петрозаводского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2013 г.
При таких данных факт совершения заявителем дисциплинарного проступка, выразившегося в нарушении правил обращения с военной техникой и правил ее эксплуатации, повлекшем по неосторожности уничтожение военного имущества, сомнений не вызывает.
Порядок привлечения О. к дисциплинарной ответственности соблюден.
Согласно ст. 28 Федерального закона «О статусе военнослужащих» привлечение военнослужащего к дисциплинарной ответственности в зависимости от характера и тяжести совершенного им правонарушения производится в соответствии с названным федеральным законом и другими федеральными законами.
Исходя из обстоятельств дела авиационное происшествие, произошедшее с участием заявителя, на основании ст. 95 Воздушного кодекса Российской Федерации подлежало обязательному расследованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях установления причин происшествия и принятия мер по их предотвращению в будущем.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 1999 г. N 1329 утверждены Правила расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с государственными воздушными судами в Российской Федерации, согласно пп. 51, 57 которых по итогам работы комиссии составляется акт расследования авиационного происшествия на основании материалов и выводов, содержащихся в отчетах подкомиссий и рабочих групп, результатов исследований и экспертиз, а также с учетом других имеющихся в распоряжении комиссии материалов, а по окончании расследования председатель комиссии представляет доклад о его результатах руководителю федерального органа исполнительной власти или организации (по принадлежности воздушного судна) и направляет копию доклада начальнику Службы безопасности полетов с указанием в нем обстоятельств авиационного происшествия, его причины, вскрытые в ходе расследования недостатков, и рекомендаций комиссии по предотвращению подобных происшествий.
Из содержания акта расследования усматривается, что в нем отражены не только причины авиационного происшествия, но и в полной мере установлены допущенные О. нарушения правил производства полетов и порядка выполнения полетного задания, что привело к крушению самолета, то есть обстоятельства, подлежащие выяснению при привлечении военнослужащего к дисциплинарной ответственности.
Из изложенного следует, что в данном конкретном случае у командования имелись основания для признания письменного разбирательства, проведенного в рамках расследования авиационного происшествия, достаточным для принятия решения о привлечении заявителя к дисциплинарной ответственности.
С результатами разбирательства О. был ознакомлен и согласен с ними, что усматривается из его собственноручно подписанного рапорта от 16 августа 2012 г.
После утверждения акта расследования начальник Главного управления кадров Минобороны России провел с заявителем 16 августа 2012 г. беседу, в ходе которой довел до его сведения, что совершение им дисциплинарного проступка исключает его дальнейшее нахождение на военной службе, в связи с чем он подлежит досрочному увольнению в запас.
24 августа 2012 г. командир воинской части представил заявителя к увольнению в связи с невыполнением им условий контракта о прохождении военной службы, указав в представлении, что О. допустил 28 июня 2012 г. грубое нарушение в организации и выполнении полетов, что привело к аварии самолета.
По результатам рассмотрения представления командующий войсками Западного военного округа 25 августа 2012 г. ходатайствовал о досрочном увольнении заявителя по названному основанию.
Приказом Министра обороны Российской Федерации от 29 сентября 2012 г. О. досрочно уволен с военной службы в запас по подп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Таким образом, в судебном заседании установлено, что увольнение О. произведено в порядке дисциплинарного взыскания — досрочного увольнения с военной службы в связи с невыполнением условий контракта.
Согласно пп. 1 — 3 ст. 28.4 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и ст. 96 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495, совершение военнослужащим дисциплинарного проступка может повлечь применение к нему установленной государством меры ответственности — дисциплинарного взыскания, одним из видов которого является досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением условий контракта, применяемое к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за исключением высших офицеров и курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования.
В силу ст. 99 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации дисциплинарное взыскание — досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением условий контракта — исполняется без согласия военнослужащего.
При таких данных Министр обороны Российской Федерации вправе был принять решение о досрочном увольнении заявителя с военной службы в связи с невыполнением условий контракта в порядке реализации дисциплинарной ответственности.
При решении вопроса о применении к заявителю названного дисциплинарного взыскания соблюдены положения Федерального закона «О статусе военнослужащих» и Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, касающиеся проведения разбирательства по факту совершения дисциплинарного проступка, обстоятельств, подлежащих установлению в ходе такого разбирательства, порядка и сроков применения, а также его исполнения, что исключило произвольное увольнение заявителя и позволило ему воспользоваться правами, предоставляемыми в силу закона военнослужащим, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, в том числе путем обращения в суд.
Таким образом, суд первой инстанции, правильно установив обстоятельства дела и применив закон, подлежащий применению, пришел к обоснованному выводу о законности приказа Министра обороны Российской Федерации от 29 сентября 2012 г. в части досрочного увольнения О. с военной службы в связи с невыполнением условий контракта.
На основании изложенного Судебная коллегия по делам военнослужащих отменила в кассационном порядке апелляционное определение Ленинградского окружного военного суда от 14 ноября 2013 г. и оставила в силе решение Петрозаводского гарнизонного военного суда от 18 июля 2013 г. по заявлению О.
Определение N 202-КГ15-2
2. Недобросовестное отношение заявителя к своим обязанностям могло служить основанием для постановки вопроса о его соответствии требованиям, предъявляемым к лицам, проходящим военную службу по контракту, с принятием решения в рамках процедуры аттестации.
Решением Нижнетагильского гарнизонного военного суда от 21 марта 2014 г., оставленным без изменения апелляционным определением Уральского окружного военного суда от 27 мая 2014 г., удовлетворено заявление М., в котором он просил признать незаконными приказы Министра обороны Российской Федерации от 7 ноября и от 2 декабря 2013 г. в части досрочного увольнения заявителя с военной службы в связи с невыполнением условий контракта и исключения из списков личного состава воинской части, а также утвержденное командиром заключение аттестационной комиссии воинской части от 7 октября 2013 г. о его несоответствии занимаемой должности и целесообразности досрочного увольнения в связи с невыполнением им условий контракта.
В кассационной жалобе командир воинской части, утверждая о невыполнении заявителем условий контракта, что нашло подтверждение в судебном заседании, и о соблюдении командованием порядка увольнения, просил об отмене судебных постановлений и принятии по делу нового решения об отказе в удовлетворении заявления.
Определением заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих от 25 марта 2015 г. кассационная жалоба заинтересованного лица с делом передана для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Рассмотрев материалы дела и обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия нашла жалобу подлежащей удовлетворению.
Согласно ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Судом при рассмотрении дела допущены существенные нарушения норм материального права, что выразилось в следующем.
Из материалов дела следует, что М., проходящий военную службу по контракту в должности помощника оперативного дежурного дежурной смены воинской части, в течение года, предшествовавшего проведению в отношении его аттестации 7 октября 2013 г. и увольнению с военной службы приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 ноября 2013 г., трижды привлекался к дисциплинарной ответственности: 1 августа 2013 г. он предупрежден о неполном служебном соответствии за самовольное оставление 26 июля 2013 г. места службы до окончания исполнения обязанностей начальника расчета в составе дежурной смены управления, 5 августа 2013 г. заявителю объявлен выговор за опоздание без уважительной причины на службу, 4 сентября 2013 г. ему объявлен выговор за слабое знание общих обязанностей дежурного по морально-психологическому обеспечению дежурства, что повлекло предоставление ему дополнительного времени для подготовки к заступлению на дежурство.
Привлечение заявителя к дисциплинарной ответственности командованием произведено по результатам разбирательств и с соблюдением установленного порядка.
После этого М. 7 октября 2013 г. был представлен на аттестационную комиссию, по результатам заседания которой факты нарушения им воинской дисциплины в совокупности с отрицательной характеристикой и неудовлетворительными оценками по физической подготовке были расценены членами комиссии как невыполнение заявителем условий контракта, в связи с чем комиссия пришла к выводу о целесообразности его досрочного увольнения с военной службы.
Приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 ноября 2013 г. М. уволен с военной службы в связи с невыполнением условий контракта и приказом того же должностного лица от 2 декабря 2013 г. исключен из списков личного состава воинской части.
Признавая названные приказы незаконными, суд первой инстанции указал в решении, что привлечение М. к дисциплинарной ответственности за нарушение общих обязанностей военнослужащего в течение короткого промежутка времени после предупреждения о неполном служебном соответствии, а также без применения к нему иных мер дисциплинарной ответственности является недостаточным для его увольнения с военной службы.
При этом суд исходил из ст. 96 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495, согласно которой военнослужащий может быть представлен к досрочному увольнению с военной службы до истечения одного года после предупреждения о неполном служебном соответствии лишь в случае систематического нарушения исполнения должностных и (или) специальных обязанностей.
Между тем судом оставлено без внимания, что досрочное увольнение М. с военной службы явилось следствием невыполнения им условий контракта, выразившегося в недобросовестном отношении к исполнению общих, должностных и специальных обязанностей военной службы.
В соответствии с ч. 3 ст. 32 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязанность военнослужащего добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В связи с этим недобросовестное отношение М. к своим обязанностям, в том числе подтвержденное наличием у него неснятых дисциплинарных взысканий и неудовлетворительными оценками по физической подготовке, вопреки утверждению суда являлось основанием для постановки вопроса о его соответствии требованиям, предъявляемым к лицам, проходящим военную службу, с точки зрения деловых и личных качеств.
Решение по данному вопросу было принято в рамках процедуры аттестации, как это установлено п. 1 ст. 26 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237.
Содержание исследованных в судебном заседании протокола заседания аттестационной комиссии, аттестационного листа, показаний представителя командира воинской части К. и свидетелей Т., М — и указывает на то, что М. командованием была предоставлена возможность заблаговременно ознакомиться с оценкой своей служебной деятельности, заявить о своем несогласии с такой оценкой, сообщить дополнительные сведения, лично участвовать в заседании аттестационной комиссии, обжаловать ее заключение и порядок проведения аттестации как вышестоящему командиру, так и в суд.
Выполнение названных условий позволило командованию обеспечить объективность заключения аттестационной комиссии и прийти к обоснованному выводу о том, что М. с учетом характера ранее совершенных им дисциплинарных проступков, за которые он уже привлекался к дисциплинарной ответственности, наличия неснятых дисциплинарных взысканий и иных юридически значимых обстоятельств, а также специфики его служебной деятельности, связанной с выполнением специальных задач в целях обеспечения боевой готовности в Ракетных войсках стратегического назначения, перестал удовлетворять требованиям законодательства о воинской обязанности и военной службе, предъявляемым к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
При таких данных вывод суда об отсутствии у аттестационной комиссии оснований для заключения о невыполнении М. условий контракта о прохождении военной службы, а у Министра обороны Российской Федерации — для досрочного увольнения заявителя с военной службы основан на неправильном применении норм материального права.
Из изложенного следует, что заключение аттестационной комиссии от 7 октября 2013 г. о несоответствии заявителя занимаемой должности и целесообразности в связи с этим его досрочного увольнения, а также приказы Министра обороны Российской Федерации от 7 ноября 2013 г. и от 2 декабря 2013 г. в части досрочного увольнения заявителя с военной службы в связи с невыполнением условий контракта и исключения из списков личного состава воинской части являются законными.
На основании изложенного Судебная коллегия по делам военнослужащих решение Нижнетагильского гарнизонного военного суда от 21 марта 2014 г. и апелляционное определение Уральского окружного военного суда от 27 мая 2014 г. отменила и приняла по делу новое решение, которым М. в удовлетворении заявления отказала.
Определение N 204-КГ15-7
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОЛЛЕГИЯ
1. Ненадлежащее и недобросовестное исполнение судьей профессиональных обязанностей, грубое и систематическое нарушение процессуального законодательства по отправлению правосудия, приведшее к искажению фундаментальных принципов судопроизводства и грубому нарушению прав участников процесса, являются дисциплинарным проступком, влекущим досрочное прекращение полномочий судьи.
Квалификационная коллегия судей Чеченской Республики досрочно прекратила полномочия судьи районного суда Б. с лишением его седьмого квалификационного класса судьи.
Дисциплинарным проступком признаны некомпетентность и недобросовестность судьи при исполнении профессиональных обязанностей, выразившиеся в грубых нарушениях требований процессуального и материального права при рассмотрении уголовных и гражданских дел.
Из материалов дисциплинарного дела усматривается, что Б. при незначительной служебной нагрузке по отправлению правосудия систематически нарушает процессуальное законодательство.
Так, за 10 месяцев 2014 года Б. не рассмотрел ни одного уголовного дела, находящегося у него в производстве. За тот же период рассмотрел всего 88 гражданских дел, что значительно ниже показателей по республике.
Из акта проверки следует, что отраженные в отчете как оконченные производством гражданские дела и решения по ним на день проверки в отдел судопроизводства районного суда не сданы. По ряду гражданских дел нарушены процессуальные сроки, протоколы судебных заседаний не изготовлены.
По гражданскому делу по иску К. к страховой компании Б. вынес заочное решение о полном удовлетворении требований истца, однако сведения о вручении ответчику извещения о дате и времени судебного заседания материалы дела не содержат, протокол судебного заседания в деле отсутствует.
Суд апелляционной инстанции это решение отменил и вынес новое решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме. В частном определении в адрес Б. указывается, что допущенные нарушения по своему характеру не совместимы со статусом судьи, поскольку свидетельствуют о некомпетентности и небрежности при исполнении Б. своих профессиональных обязанностей, умаляют авторитет судебной власти, носителями которой являются судьи.
Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации признала решение квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий судьи Б. обоснованным, так как примененное к Б., характеризующемуся по работе отрицательно, дисциплинарное взыскание, соответствует совершенному им дисциплинарному проступку.
Решение N ДК15-2
2. Недобросовестное отношение судьи к своим служебным обязанностям, повлекшее за собой волокиту при направлении апелляционных (кассационных) жалоб в вышестоящий суд, нарушение конституционных прав участников процесса, обжаловавших приговор и не имевших возможности реализовать свои процессуальные права на доступ к правосудию, несоблюдение сроков вручения копий судебных постановлений, необращение к исполнению судебных актов являются основанием для применения исключительной меры ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи.
Решением квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан на судью Ю., ранее привлекавшегося за совершение дисциплинарного проступка к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения, наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением его шестого квалификационного класса судьи.
Дисциплинарным проступком признаны факты недобросовестного отношения судьи Ю. к своим служебным обязанностям: оконченные производством дела в отдел делопроизводства не передаются, хранятся в кабинете судьи, надлежащим образом не оформлены, протоколы судебных заседаний изготавливаются несвоевременно, длительное время судьей не разрешаются ходатайства осужденных об ознакомлении с материалами уголовного дела и протоколами судебных заседаний, грубо нарушаются сроки вручения копий судебных постановлений, направления дел в суд апелляционной инстанции и обращений к исполнению судебных актов.
Так, по уголовному делу в отношении К., находящемуся в производстве Ю., первые процессуальные действия по извещению заинтересованных лиц о поступивших апелляционной жалобе и апелляционном представлении совершены только спустя четыре месяца со дня их поступления в суд.
По ряду уголовных дел в отношении осужденных протоколы судебных заседаний не подписаны, копии приговоров осужденным вручены несвоевременно, ходатайства осужденных и прокурора не разрешены, дела в суд апелляционной инстанции длительное время не были направлены.
В кабинете судьи длительное время хранились дела, рассмотренные в апелляционном порядке, что повлекло неисполнение судебных решений. Остались неисполненными 16 постановлений о назначении административных штрафов, 39 постановлений о лишении управления транспортными средствами.
На момент проведения проверки было установлено также, что из-за несвоевременного обращения приговора к исполнению осужденный С. не был направлен в колонию-поселение для отбытия наказания, а продолжал содержаться под стражей в следственном изоляторе, откуда был освобожден.
О недопустимости пренебрежения служебными обязанностями и нарушений требований уголовно-процессуального закона, несоблюдения прав участников процесса на разумные сроки рассмотрения дел неоднократно обращалось внимание судьи Ю. в частных определениях суда вышестоящей инстанции.
С учетом изложенного Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации согласилась с решением квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан.
Решение N ДК15-4
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ВОПРОС 1. Каким образом определяется размер процентов за пользование чужими денежными средствами согласно статье 395 ГК РФ в редакции Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»?
ОТВЕТ. Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Закон), вступившим в силу с 1 июня 2015 г., изменена редакция ст. 395 ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в новой редакции размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
По общему правилу расчет процентов в соответствии с новой редакцией ст. 395 ГК РФ производится на основании сведений по вкладам физических лиц, опубликованных Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет».
В новой редакции ст. 395 ГК РФ установлено, что размер процентов определяется ставками, имевшими место в соответствующие периоды времени, а не на день предъявления иска или день вынесения решения, как это было установлено в прежней редакции данной нормы. Ввиду этого за каждый период просрочки расчет осуществляется исходя из средней ставки (ставок) банковского процента в этом периоде, а если ставка за соответствующий период не опубликована — исходя из самой поздней из опубликованных ставок.
Расчет процентов осуществляется по ставке, сложившейся в федеральном округе, в котором находится место жительства (место нахождения) кредитора. Если кредитором является лицо, место жительства (нахождения) которого находится за пределами Российской Федерации, расчет осуществляется по ставке, сложившейся в федеральном округе по месту нахождения суда, рассматривающего спор.
По смыслу п. 3 ст. 395 ГК РФ, проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются включительно по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.
ВОПРОС 2. Можно ли считать установленный п. 3 ст. 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 45-дневный срок на предъявление обществу требования о выкупе акций соблюденным, если акционер сдаст документ, содержащий такое требование, в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня этого срока?
ОТВЕТ. В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об акционерных обществах, Закон) акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров определенных решений, если они голосовали против их принятия либо не принимали участия в голосовании.
Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. В течение этого же срока в общество должен поступить и отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций (абзацы второй и третий п. 3 ст. 76 Закона).
Согласно абзацу второму п. 4 ст. 76 Закона об акционерных обществах совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Из системного толкования положений ст. 76 Закона об акционерных обществах, регламентирующих механизм выкупа акций, можно сделать вывод о том, что в рамках установленного в абзаце втором п. 3 этой статьи 45-дневного срока требования акционеров о выкупе у них акций должны поступить в акционерное общество.
Такой подход к порядку исчисления указанного срока обусловлен необходимостью закрепления единого временного периода, в течение которого должен быть определен круг лиц, пожелавших реализовать право на отчуждение акций, а также устранена неопределенность в положении как самого акционерного общества, так и иных его акционеров.
Иное толкование положений абзаца второго п. 3 ст. 76 Закона означало бы невозможность реализации в установленные сроки дальнейшей процедуры выкупа.
Таким образом, если требование акционера о выкупе акций поступит в акционерное общество за пределами указанного 45-дневного срока, его следует считать не предъявленным, акционер в этом случае не вправе принуждать общество к выкупу акций.
ВОПРОС 3. Допускается ли взыскание с органов или должностных лиц в порядке регресса денежных средств, выплаченных из казны Российской Федерации во исполнение решения суда о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок?
ОТВЕТ. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее — Закон о компенсации) граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном Законом о компенсации и процессуальным законодательством Российской Федерации.
Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок не препятствует возмещению вреда в соответствии со ст. 1069, 1070 ГК РФ. Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок лишает заинтересованное лицо права на компенсацию морального вреда за указанные нарушения (ч. 4 ст. 1 Закона о компенсации).
Таким образом, федеральный законодатель установил специальный — вспомогательный к общегражданскому порядку возмещения вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов, — механизм защиты прав на судебную защиту и на справедливое судебное разбирательство.
Часть 6 ст. 1 Закона о компенсации содержит специальное правило, в соответствии с которым органы, уполномоченные от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на исполнение решений суда, арбитражного суда о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, имеют право предъявить регрессное требование к органу или должностному лицу, по вине которого допущено такое нарушение.
Положений о праве регрессного требования к органу или должностному лицу, по вине которого допущено нарушение права на судопроизводство в разумный срок, Законом о компенсации не предусмотрено.
Таким образом, взыскание с органов или должностных лиц в порядке регресса денежных средств, выплаченных из казны Российской Федерации во исполнение решения суда о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, не допускается.
ВОПРОС 4. Необходимо ли истребовать согласие долевых собственников земельного участка сельскохозяйственного назначения (за исключением участков из земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с разрешенным использованием которых предусматриваются гаражное строительство, ведение личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями), являющихся арендодателями, для передачи арендатором арендных прав земельного участка в залог?
ОТВЕТ. Пунктом 2 ст. 615 ГК РФ закреплено право арендатора с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, если иное не установлено данным кодексом, другим законом или иными правовыми актами.
В соответствии с п. 1.1 ст. 62 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», если земельный участок передан по договору аренды гражданину или юридическому лицу, арендатор земельного участка вправе отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия собственника земельного участка. Данный пункт в указанной редакции введен в действие Федеральным законом от 5 февраля 2004 г. N 1-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Вместе с тем согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» право аренды может быть предметом ипотеки с согласия арендодателя, если федеральным законом или договором аренды не предусмотрено иное.
При этом действующим законодательством, регулирующим земельные правоотношения, установлен иной порядок передачи в залог арендных прав земельных участков.
Так, п. 5 ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон — арендаторов земельных участков, вправе передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия арендодателя при условии его уведомления, если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное. Данная норма права (без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 22 июля 2005 г. N 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и Федеральным законом от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») действует с момента введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, то есть с 30 октября 2001 г.
Пунктом 8 ст. 9 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» установлено, что в пределах срока действия договора аренды при передаче арендатором арендных прав земельного участка в залог согласие участников долевой собственности на это не требуется, если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное. Указанный пункт введен в действие Федеральным законом от 18 июля 2005 г. N 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Федеральный закон «О землеустройстве».
Действие Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» распространяется на отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с разрешенным использованием которых предусматриваются гаражное строительство, ведение личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями (ст. 1).
Таким образом, из взаимосвязанных норм Земельного кодекса Российской Федерации и более поздних положений Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» следует, что получение согласия участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (за исключением участков из земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с разрешенным использованием которых предусматриваются гаражное строительство, ведение личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями) для передачи в пределах срока действия договора аренды в залог арендных прав на такой участок не требуется, если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное. Достаточно уведомить об этом участников долевой собственности на данный земельный участок.
ВОПРОС 5. На кого будет возлагаться обязанность выполнения требований, установленных в ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в случае перемены лиц в обязательствах по внешнеторговым договорам (контрактам) при уступке (цессии) прав требований денежных средств между резидентами по внешнеторговым сделкам?
ОТВЕТ. В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — Закон о валютном регулировании) при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено данным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить: получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.
Таким образом, в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по внешнеторговому договору у резидента возникает обязанность обеспечить получение либо возврат уплаченной валютной выручки.
В соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Не допускается переход прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (ст. 383 ГК РФ). Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону (п. 1 ст. 388 ГК РФ).
Статья 14 Закона о валютном регулировании, устанавливая права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций, не содержит запрета на осуществление резидентами уступки прав требования по внешнеторговым сделкам.
Из изложенного следует вывод, что уступка права требования по внешнеторговым контрактам допустима.
Данная возможность также прямо предусмотрена п. 7.1.3 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права (п. 1 ст. 384 ГК РФ).
Следовательно, в случае осуществления уступки прав требований по внешнеторговому договору (контракту) субъектом валютного контроля, на которого возлагается обязанность выполнения требований, установленных в ч. 1 ст. 19 Закона о валютном регулировании, будет являться цессионарий (лицо, к которому перешло право требования).
Процессуальные вопросы
ВОПРОС 6. В какой срок могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции определения арбитражного суда первой инстанции, принятые в рамках дела о банкротстве по результатам рассмотрения обособленных споров (в частности, определения, принятые по результатам рассмотрения заявлений, ходатайств и жалоб в порядке, установленном статьями 60, 71 и 100 Закона о банкротстве, заявлений об оспаривании сделок должника и т.д.) в случае, если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы?
ОТВЕТ. Согласно ч. 3 ст. 223 АПК РФ определения, которые выносятся арбитражным судом при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) и обжалование которых предусмотрено указанным кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства), отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня их вынесения. В рамках этого порядка возможно дальнейшее обжалование судебных актов в суд кассационной инстанции.
Правила, установленные ст. 181 и 273 АПК РФ, о допустимости обжалования судебного акта в суд кассационной инстанции в случае, если суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, применяется также к обжалованию определений, принятых в рамках дела о банкротстве по результатам рассмотрения обособленных споров (п. 39 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 г. N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).
Порядок рассмотрения кассационных жалоб на определения суда первой инстанции установлен в ст. 290 АПК РФ, в которой указано, что жалобы на эти судебные акты подаются по правилам, установленным настоящим Кодексом (ч. 1 ст. 290 АПК РФ).
Общие положения о порядке и сроках обжалования определений содержатся в ст. 188 АПК РФ.
Из системного толкования положений чч. 3, 4 и 5 ст. 188, ч. 3 ст. 223 и ч. 1 ст. 290 АПК РФ можно сделать вывод о том, что если суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы на определение, принятое в рамках дела о банкротстве по результатам рассмотрения обособленного спора, то срок подачи кассационной жалобы на определение суда первой инстанции составляет один месяц и исчисляется со дня истечения предусмотренного ч. 3 ст. 223 АПК РФ десятидневного срока на обжалование этого судебного акта в суд апелляционной инстанции.
Разъяснения, содержащиеся в п. 39 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 г. N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», порядок исчисления срока на кассационное обжалование определений суда первой инстанции, принятых в рамках дела о банкротстве по результатам рассмотрения обособленных споров, не определяют.
ВОПРОС 7. Судом общей юрисдикции или арбитражным судом должны рассматриваться иски, предъявляемые к страховой компании кредитором — юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), к которому перешли (были переданы) принадлежавшие физическому лицу права (требования) по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств?
ОТВЕТ. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
На основании ч. 3 ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные чч. 1 и 2 ст. 22 названного Кодекса, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.
Часть 1 ст. 27 АПК РФ предусматривает, что к юрисдикции арбитражных судов относятся дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Частью 2 ст. 27, ст. 28 АПК РФ установлено, что арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке; случаи рассмотрения арбитражным судом дела с участием гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, должны быть предусмотрены АПК РФ или федеральным законом.
Таким образом, одним из критериев отнесения того или иного дела к компетенции арбитражных судов наряду с экономическим характером требования является субъектный состав участников спора.
В силу положений ст. 383, 384, 388 ГК РФ, которыми установлены требования к виду и объему передаваемых (переходящих) прав, приобретение юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) прав (требований) гражданина по договору обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств не ведет к переходу прав, связанных со статусом потерпевшего — гражданина как потребителя.
Заключение договора уступки прав юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с потерпевшим — физическим лицом (или переход прав по договору в порядке суброгации) в указанном случае направлено на приобретение прав потерпевшего по обязательству страховой организации уплатить определенную денежную сумму и связано с осуществлением такими новыми кредиторами предпринимательской или иной экономической деятельности.
Таким образом, рассмотрение споров по искам юридических лиц (или индивидуальных предпринимателей), к которым перешли (были переданы) права (требования) по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, к страховой организации в силу ч. 3 ст. 22 ГПК РФ, ч. 2 ст. 27, ст. 28 АПК РФ относится к компетенции арбитражных судов.
ВОПРОС 8. Вправе ли конкурсные кредиторы должника, уполномоченный орган и арбитражный управляющий обжаловать судебный акт суда общей юрисдикции, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование другого кредитора?
ОТВЕТ. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) наделяет конкурсных кредиторов, уполномоченный орган и арбитражного управляющего правом заявлять возражения относительно требований других кредиторов, предъявленных в деле о банкротстве (п. 2 ст. 71, п. 3 ст. 100 Закона о банкротстве).
Вместе с тем в соответствии с п. 10 ст. 16 Закона о банкротстве разногласия по требованиям кредиторов или уполномоченных органов, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда в части их состава и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом в деле о банкротстве, за исключением разногласий, связанных с исполнением судебных актов или их пересмотром.
На этом основании, если судебным актом суда общей юрисдикции, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование другого кредитора, разрешен вопрос о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле о банкротстве, конкурсные кредиторы, уполномоченный орган и арбитражный управляющий вправе обжаловать указанный судебный акт в соответствии с нормами ГПК РФ.
В случае пропуска названными лицами срока на обжалование судебного акта суд вправе его восстановить применительно к ст. 112 ГПК РФ.
ВОПРОС 9. В каком порядке могут быть обжалованы определения арбитражного суда первой инстанции, вынесенные в рамках дел об оспаривании решения третейского суда, о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения (например, определения о принятии обеспечительных мер или об отказе в принятии обеспечительных мер, о возвращении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, о наложении штрафа за неуважение к суду, о приостановлении производства по делу)?
ОТВЕТ. По результатам рассмотрения дел об оспаривании решения третейского суда, о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (гл. 30 АПК РФ), о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения (гл. 31 АПК РФ) арбитражный суд выносит судебный акт в форме определения по правилам гл. 20 АПК РФ, регулирующим порядок принятия решений (ч. 1 ст. 234, ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 245 АПК РФ).
Установленный ч. 5 ст. 234, ч. 5 ст. 240, ч. 3 ст. 245 АПК РФ порядок обжалования названных определений предполагает, что они могут быть пересмотрены арбитражным судом кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения. Такой порядок исключает необходимость обращения в арбитражный суд апелляционной инстанции.
Данное положение, являясь гарантией быстрого рассмотрения дела, определяет пределы проверки указанных определений арбитражного суда, ограничивая их вопросами права.
В п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 мая 2009 г. N 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» содержатся разъяснения, касающиеся рассматриваемых положений АПК РФ. При этом обращается внимание на то, что в таком же порядке обжалуются определения о возвращении заявления и другие определения, которыми завершается производство по названным категориям дел без рассмотрения заявления по существу (определение о прекращении производства по делу, определение об оставлении заявления без рассмотрения).
Изложенный подход соответствует ранее сформулированному подходу, содержащемуся в п. 19 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов N 96, утвержденного Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 22 декабря 2005 г., согласно которому в отношении определений, вынесенных в рамках дела об оспаривании решения третейского суда, применяется кассационный порядок обжалования вне зависимости от характера принятого судебного акта.
С учетом этого указанный порядок следует применять при обжаловании любых определений, вынесенных в ходе рассмотрения арбитражными судами первой инстанции дел об оспаривании решения третейского суда, о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, вне зависимости от характера обжалуемого определения.
Следование же в отдельных случаях апелляционному порядку пересмотра (в отношении определений, не препятствующих дальнейшему рассмотрению дела) означало бы существование двух различных порядков пересмотра, подлежащих применению по одному и тому же делу. Это вызовет неопределенность в вопросе о характере судебного акта, являющегося предметом судебной проверки, потребует выделения материалов дела, связанных с обжалуемым определением, для направления их в арбитражный суд апелляционной инстанции, приведет к увеличению сроков рассмотрения дела и повысит нагрузку арбитражных апелляционных судов.
Таким образом, определения, вынесенные судом в рамках рассмотрения дел по правилам гл. 30 и 31 АПК РФ, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции, минуя суд апелляционной инстанции.
ВОПРОС 10. Может ли факт заключения договора займа при отсутствии оригинала такого договора либо исключении его судом из числа доказательств по делу подтверждаться иными доказательствами, в частности платежными документами, подтверждающими факт перечисления денежных средств?
ОТВЕТ. Согласно п. 1 ст. 158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами (п. 1 ст. 160 ГК РФ).
Указанные правила применяются к двусторонним (многосторонним) сделкам (договорам), если иное не установлено ГК РФ (п. 2 ст. 420 ГК РФ). Так договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (пп. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ).
Статьей 808 ГК РФ установлены требования к форме договора займа: договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, — независимо от суммы.
В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Согласно ст. 162 ГК РФ несоблюдение требований о совершении сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.
При этом договор займа является реальным и в соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Статьей 812 ГК РФ предусмотрено, что заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (ст. 808 ГК РФ), его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.
В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ и ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждая сторона, лицо, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые гл. 42 ГК РФ, а на заемщике — факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.
При наличии возражений со стороны ответчика относительно природы возникшего обязательства следует исходить из того, что займодавец заинтересован в обеспечении надлежащих доказательств, подтверждающих заключение договора займа, и в случае возникновения спора на нем лежит риск недоказанности соответствующего факта.
В соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК РФ, ч. 8 ст. 75 АПК РФ при непредставлении истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии вне зависимости от причин этого (в случаях утраты, признания судом недопустимым доказательством, исключения из числа доказательств и т.д.) истец лишается возможности ссылаться в подтверждение договора займа и его условий на свидетельские показания, однако вправе приводить письменные и другие доказательства, в частности расписку заемщика или иные документы.
К таким доказательствам может относиться, в частности, платежное поручение, подтверждающее факт передачи одной стороной определенной денежной суммы другой стороне.
Такое платежное поручение подлежит оценке судом, арбитражным судом исходя из объяснений сторон об обстоятельствах дела, по правилам, предусмотренным ст. 67 ГПК РФ или ст. 71 АПК РФ, — по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, с учетом того, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.
При этом указание в одностороннем порядке плательщиком в платежном поручении договора займа в качестве основания платежа само по себе не является безусловным и исключительным доказательством факта заключения сторонами соглашения о займе и подлежит оценке в совокупности с иными обстоятельствами дела, к которым могут быть отнесены предшествующие и последующие взаимоотношения сторон, в частности их взаимная переписка, переговоры, товарный и денежный оборот, наличие или отсутствие иных договорных либо внедоговорных обязательств, совершение ответчиком действий, подтверждающих наличие именно заемных обязательств, и т.п.
Вопросы применения Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации
ВОПРОС 11. В каком порядке рассматриваются дела о взыскании обязательных платежей и санкций с физических лиц, находящиеся в производстве судов общей юрисдикции и не рассмотренные на 15 сентября 2015 г.?
Утвержден на заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации 9 сентября 2015 г.
ОТВЕТ. Пункт 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ устанавливает, что мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей.
С 15 сентября 2015 г. вводится в действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее — КАС РФ), который не предусматривает рассмотрение дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, мировыми судьями (ст. 1 Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» (далее — Федеральный закон N 22-ФЗ), ст. 17 — 21 КАС РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона N 22-ФЗ дела, находящиеся в производстве Верховного Суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции и не рассмотренные до 15 сентября 2015 г., подлежат рассмотрению и разрешению в порядке, предусмотренном КАС РФ.
Вместе с тем согласно ст. 4 и ч. 2 ст. 7 Федерального закона N 22-ФЗ, содержащим специальные нормы, с 15 сентября 2015 г. дела по требованиям о взыскании с физических лиц обязательных платежей и санкций подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ. При этом указанные нормы не содержат положений о распространении КАС РФ на не рассмотренные до 15 сентября 2015 г. дела данной категории.
Исходя из изложенного дела о взыскании обязательных платежей и санкций, находящиеся в производстве районных судов и мировых судей и не рассмотренные на день введения в действие КАС РФ, рассматриваются в соответствии с процессуальным законом, действовавшим до 15 сентября 2015 г., то есть по правилам ГПК РФ.
Дела данной категории, поступившие после указанной даты, рассматриваются районным судом по правилам КАС РФ.
ВОПРОС 12. В каком порядке рассматриваются заявления о выдаче судебного приказа по требованиям о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим обязательным платежам, находящиеся в производстве мировых судей и не рассмотренные на 15 сентября 2015 г.?
Утвержден на заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации 9 сентября 2015 г.
ОТВЕТ. Пункт 1 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ устанавливает, что мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела о выдаче судебного приказа.
Согласно абзацу шестому ст. 122 ГПК РФ судебный приказ выдается, если заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим обязательным платежам.
С 15 сентября 2015 г. вводится в действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее — КАС РФ), который не предусматривает рассмотрение дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, мировыми судьями, а абзац шестой ст. 122 ГПК РФ признается утратившим силу (п. 6 ст. 16 Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»).
В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» дела, находящиеся в производстве Верховного Суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции и не рассмотренные до 15 сентября 2015 г., подлежат рассмотрению и разрешению в порядке, предусмотренном КАС РФ.
Вместе с тем в приказном производстве рассматриваются заявления о выдаче судебного приказа по требованиям о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим обязательным платежам, которые, по смыслу ч. 1 ст. 3 Федерального закона N 22-ФЗ, не подлежат передаче на рассмотрение районных судов в связи с введением в действие КАС РФ. С учетом этого указанные заявления должны быть рассмотрены в соответствии с процессуальным законом, действующим на момент их принятия (гл. 11 ГПК РФ).
В случае поступления после введения в действие КАС РФ возражений должника относительно исполнения судебного приказа, выданного до 15 сентября 2015 г. по требованию о взыскании недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам, такой приказ отменяется по правилам ст. 129 ГПК РФ. В этом случае заявление о взыскании обязательных платежей и санкций может быть подано в районный суд и рассмотрено по правилам КАС РФ.
ВОПРОС 13. Какими документами должно подтверждаться наличие высшего образования у представителя по делам, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства?
В какой форме суду должен быть представлен документ об образовании (подлинник или копия)?
ОТВЕТ. В силу чч. 1 и 3 ст. 55 КАС РФ представителями в суде по административным делам могут быть лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование. Представители должны представить суду документы о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их статус и полномочия.
Суд обязан проверить полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей. Документы, подтверждающие полномочия представителей, или их копии при необходимости приобщаются к материалам административного дела, либо сведения о них заносятся в протокол судебного заседания (чч. 1 и 3 ст. 58 КАС РФ).
Согласно пп. 2 — 4 ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании, Федеральный закон N 273-ФЗ) высшим образованием в Российской Федерации являются бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации.
Образовательные уровни (образовательные цензы), установленные в Российской Федерации до дня вступления в силу названного федерального закона, приравниваются к уровням образования, установленным данным федеральным законом, в следующем порядке:
высшее профессиональное образование — бакалавриат — к высшему образованию — бакалавриату;
высшее профессиональное образование — подготовка специалиста или магистратура — к высшему образованию — специалитету или магистратуре;
послевузовское профессиональное образование в аспирантуре (адъюнктуре) — к высшему образованию — подготовке кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (пп. 4 — 6 ч. 1 ст. 108 Федерального закона N 273-ФЗ).
Пунктами 2 — 5 ч. 7 ст. 60 Закона об образовании установлено, что высшее образование — бакалавриат подтверждается дипломом бакалавра; высшее образование — специалитет подтверждается дипломом специалиста; высшее образование — магистратура подтверждается дипломом магистра; высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), подтверждается дипломом об окончании аспирантуры (адъюнктуры).
Исходя из приведенных предписаний закона наличие высшего юридического образования у представителя по делам, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства, может подтверждаться дипломом бакалавра, дипломом специалиста, дипломом магистра либо дипломом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) по юридической специальности.
Сведения о наличии у представителя высшего юридического образования, полученного до вступления в силу Закона об образовании, могут также подтверждаться иными документами, выданными в соответствии с ранее действовавшим правовым регулированием.
Указанные документы представляются в суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
ВОПРОС 14. Вправе ли суд допустить к участию в административном деле представителя, полномочия которого оформлены до 15 сентября 2015 г. в соответствии с гражданским процессуальным законодательством?
ОТВЕТ. С 15 сентября 2015 г. введен в действие КАС РФ, а подраздел III раздела II ГПК РФ, определяющий порядок рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений, признан утратившим силу (ст. 1 Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» (далее — Закон N 22-ФЗ), п. 12 ст. 16 Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»).
Дела, находящиеся в производстве судов общей юрисдикции, а также апелляционные, кассационные