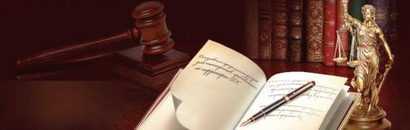Posted in Обзоры суд. практики ВС РФ Author: Олег Умеренков Published Date: 22.07.2016
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №2 (2016)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016)
(Извлечение)
- ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- По гражданским делам
- СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
- I. Разрешение споров, связанных с использованием земельных участков для жилой застройки
- II. Разрешение споров, возникающих из договорных отношений
- III. Разрешение споров, связанных с семейными отношениями
- IV. Разрешение споров, связанных с трудовыми и социальными отношениями
- V. Процессуальные вопросы
- СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ
- I. Практика применения положений законодательства о банкротстве
- II. Разрешение споров, связанных с недействительностью сделок
- III. Право собственности и другие вещные права
- IV. Разрешение споров, возникающих из обязательственных правоотношений
- V. Споры, возникающие из налоговых правоотношений
- VI. Споры, возникающие при применении законодательства о защите конкуренции
- VII. Споры, возникающие при применении таможенного законодательства
- СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ
- РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
- Применение положений законодательства о банкротстве
- Обязательственное право
- Применение положений законодательства об охране природы и природопользовании
- Применение налогового законодательства
- Процессуальные вопросы и исполнительное производство
- Вопросы по применению положений главы 32 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
По гражданским делам
2. Вопрос о восстановлении срока на обжалование судебного акта лицу, не привлеченному к участию в деле, рассматривается с исследованием фактических обстоятельств, указывающих на права и обязанности данного лица, затронутые в результате принятия обжалуемого судебного акта.
Решением суда первой инстанции от 15 ноября 2013 г. удовлетворен иск территориального управления Росимущества о признании самовольной постройкой 14-этажного многоквартирного жилого дома, строительство которого не завершено, сносе указанного дома, взыскании с П. задолженности по арендной плате и расторжении договора аренды земельного участка. В удовлетворении встречных исковых требований о признании права собственности на самовольную постройку П. отказано.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам краевого суда от 14 января 2014 г. указанное выше решение отменено, по делу принято новое решение, которым в удовлетворении иска территориального управления Росимущества отказано, иск П. удовлетворен.
7 апреля 2015 г. К. обратилась в суд с заявлением о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу кассационной жалобы на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам краевого суда от 14 января 2014 г. В обоснование заявления К. указала, что является собственником одной из квартир в жилом доме, расположенном на земельном участке, смежном с земельным участком, на котором расположен строящийся 14-этажный многоквартирный жилой дом, являющийся предметом спора по делу; обжалуемым судебным актом непосредственно затрагиваются ее права и законные интересы, однако она не была привлечена к участию в деле, а узнала об обжалуемом судебном постановлении из письма администрации муниципального образования от 3 апреля 2015 г., копию которого приложила к заявлению.
Определением суда от 14 апреля 2015 г., оставленным без изменения апелляционным определением от 19 мая 2015 г., заявление К. удовлетворено.
Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. определение суда от 14 апреля 2015 г. и апелляционное определение от 19 мая 2015 г. отменены, в удовлетворении заявления К. отказано.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев дело по надзорной жалобе К., отменил указанное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.
В соответствии с п. 3 ст. 391.9 ГПК РФ судебные постановления подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда Российской Федерации установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами норм права.
Согласно п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. N 29 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» при рассмотрении кассационных жалобы, представления с делом суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой и апелляционной инстанций, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, а также исследовать новые доказательства (ч. 2 ст. 390 ГПК РФ).
В п. 27 этого же постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации разъяснено, что если судами первой и (или) апелляционной инстанций допущена ошибка в применении и (или) толковании норм материального права, для исправления которой после отмены (изменения) судебных постановлений не требуется установления новых обстоятельств дела, представления, исследования и оценки доказательств, то суду кассационной инстанции следует принять новое судебное постановление (определение), не передавая дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции (п. 5 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ).
Исходя из данных разъяснений, суд кассационной инстанции вправе принять новое судебное постановление, то есть разрешить спор или вопрос по существу только в том случае, если нижестоящим судом допущена ошибка в применении и (или) толковании правовых норм. В случае же, если нижестоящим судом не были установлены обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, суд кассационной инстанции обязан направить дело на новое рассмотрение в нижестоящий суд — суд первой или апелляционной инстанции, к полномочиям которых отнесено установление указанных обстоятельств на основании представленных сторонами спора в порядке ст. 56, 57 ГПК РФ доказательств и с соблюдением принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства.
При разрешении вопроса о восстановлении лицу, не привлеченному к участию в деле, пропущенного процессуального срока на обжалование судебного акта либо об отказе в восстановлении такого срока в судебном заседании первой или апелляционной инстанции должны быть исследованы юридически значимые обстоятельства, а именно: лишено ли данное лицо каких-либо прав или ограничено в правах, наделено правами либо на него возложена обязанность (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. N 29 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции», абзац четвертый п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции»).
Между тем, признав, что ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции не были установлены названные юридически значимые обстоятельства, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в нарушение п. 5 ч. 1 и ч. 2 ст. 390 ГПК РФ, п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. N 29 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» разрешила по существу вопрос об отказе К. в восстановлении срока на обжалование судебного акта в кассационном порядке, что повлекло за собой нарушение единообразия в применении норм процессуального права.
Постановление Президиума
Верховного Суда
Российской Федерации
N 1-ПВ16
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
I. Разрешение споров, связанных с использованием земельных участков для жилой застройки
1. Строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу.
Газовая компания обратилась в суд с иском к Г., обществу (застройщик) об устранении нарушений прав путем возложения обязанности за свой счет снести строения, расположенные на земельном участке вблизи магистрального газопровода.
Решением суда исковые требования удовлетворены, Г. обязан снести за свой счет спорное строение, расположенное в зоне минимально допустимых расстояний магистрального газопровода. В удовлетворении исковых требований к застройщику отказано.
Апелляционным определением решение суда первой инстанции в части возложения на Г. обязанности по сносу строения и взыскания государственной пошлины отменено с принятием в отмененной части нового решения об отказе в удовлетворении иска. В остальной части решение суда оставлено без изменения.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила указанное апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции по следующим основаниям.
Судом установлено, что по территории муниципального района проходит магистральный газопровод диаметром 325 мм, рабочее давление — 55 кгс/см. Строительство магистрального газопровода осуществлено в 1965 году.
Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы фактическое расстояние от оси магистрального газопровода до границы земельного участка и жилого дома Г. составляет соответственно 85,07 м и 98,07 м.
Истец предупреждал застройщика о том, что строительство не согласовано с истцом, в результате чего заложенная в проекте застраиваемая зона оказалась в пределах минимальных безопасных расстояний магистрального газопровода, в связи с чем застройщику было предложено переработать проект застройки и согласовать его с представителями газовой компании, а также прекратить любые строительные работы до устранения выявленных нарушений.
Исполнительный комитет муниципального района был поставлен в известность, что на территории района расположены магистральные газопроводы высокого давления с указанием фактического местоположения трубопроводов с целью предотвращения нарушений охранной зоны (25 м от оси газопровода в обе стороны) и зоны минимально безопасных расстояний (от 100 до 150 м от оси газопровода в обе стороны) при строительстве зданий, сооружений, различных коммуникаций.
Тем не менее исполнительным комитетом застройщику было выдано разрешение на строительство коттеджного поселка, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что объекты ответчика расположены в нарушение минимальных расстояний от оси газопровода, который является источником повышенной опасности, создает угрозу жизни и здоровью как самого ответчика, так и граждан, дома которых расположены в непосредственной близости от земельного участка ответчика, строения ответчика являются дополнительным катализатором и распространяющим пожар элементом в случае аварии на газопроводе, и удовлетворил исковые требования о возложении обязанности снести строения, расположенные в зоне минимально допустимых расстояний магистрального газопровода, на земельном участке, принадлежащем Г.
В удовлетворении исковых требований к застройщику, как не являющемуся собственником жилого дома и земельного участка, суд отказал.
Отменяя решение суда в части возложения на Г. обязанности по сносу строения и взыскания государственной пошлины и постановляя в отмененной части новое решение об отказе в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции указал, что спорное строение находится в охранной зоне лишь в своей незначительной части и под углом к газопроводу.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в кассационном порядке признала выводы суда апелляционной инстанции ошибочными.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее — Закон о газоснабжении) охранная зона объектов системы газоснабжения — территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.
В соответствии с п. 6 ст. 90 Земельного кодекса Российской Федерации и частью шестой ст. 28 Закона о газоснабжении границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов.
Пунктом 4.1 Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Министерством топлива и энергетики России от 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. N 9 (далее — Правила), предусмотрено установление охранных зон для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки).
Пунктом 4.4 Правил установлен запрет на возведение любых построек и сооружений в охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта.
На основании части четвертой ст. 32 Закона о газоснабжении здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Согласно п. 7.15 СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р утвержден Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее — Перечень).
Пунктом 40 Перечня предусмотрено, что применению на обязательной основе для обеспечения соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» подлежат следующие части СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»: разделы 1, 2, 3 (пп. 3.1 — 3.15, 3.18 — 3.23, 3.25, 3.27), 4 (пп. 4.1, 4.2, 4.4 — 4.22), 6 (пп. 6.1 — 6.7, 6.9 — 6.31*, 6.34* — 6.37), 7 — 10, 12 (пп. 12.1*, 12.2*, 12.4*, 12.5, 12.7, 12.12*, 12.15*, 12.16, 12.19, 12.20, 12.30 — 12.33*, 12.35*).
Пункт 3.8 Перечня содержит таблицу 4, регламентирующую минимально допустимые расстояния от оси трубопроводов до объектов, зданий, сооружений.
Согласно таблице 4 в населенных пунктах при наличии газопровода диаметром свыше 300 до 600 мм запрещено строительство зданий и сооружений ближе чем на 150 м в обе стороны от оси магистрального газопровода.
Как следует из материалов дела, принадлежащий Г. земельный участок согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним относится к категории земель — земли населенных пунктов.
На основании п. 1 примечания к таблице 4 расстояния, указанные в таблице, следует принимать: для городов и других населенных пунктов — от проектной городской черты на расчетный срок 20 — 25 лет.
В силу п. 2 примечания к таблице 4 под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий и сооружений.
Сославшись на незначительность нарушения минимально допустимых расстояний от оси газопровода до жилого дома ответчика, суд не учел, что, по смыслу Закона о газоснабжении, это обстоятельство само по себе не могло служить основанием для отказа в удовлетворении требований о сносе зданий, строений и сооружений, построенных ближе установленных минимальных расстояний.
Кроме того, суд апелляционной инстанции, придя к выводу о том, что истец мог избрать другой способ защиты своих интересов, не указал, какой иной способ защиты интересов истцу следовало избрать. Суд апелляционной инстанции не принял во внимание, что судом первой инстанции по делу назначалась строительно-техническая экспертиза, на разрешение которой в том числе были поставлены вопросы о возможности изменения класса магистрального газопровода в целях устранения нарушений минимальных расстояний; наличии угрозы повреждения спорного строения, жизни и здоровью граждан в случае возникновения аварийной ситуации на газопроводе; наличии возможности проведения дополнительных работ по укреплению спорного строения. Эта экспертиза не была выполнена в связи с загруженностью отдела экспертиз, испытаний и проектирования автономной некоммерческой организации по экспертизе и испытаниям в строительстве.
Тем не менее при отсутствии заключения назначавшейся строительно-технической экспертизы суд апелляционной инстанции был вправе предложить сторонам представить дополнительные доказательства в подтверждение наличия иного способа защиты интересов газовой компании и соблюдения требований охранной зоны магистрального газопровода.
Определение N 11-КГ15-33
2. Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за лицом, создавшим в результате реконструкции новый объект, если возведение такого объекта осуществлено с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил и создает угрозу жизни и здоровью граждан.
А., Б.Л., Б.А., Б.С., Д., К., Л., М., Р., С., Т., Ф. обратились в суд с иском к Д.А. о прекращении права общей долевой собственности и о разделе жилого дома, указав, что сторонам по делу на праве общей долевой собственности принадлежат жилой дом и земельный участок. Истцы обратились к ответчику с предложением о прекращении права общей долевой собственности на данный дом путем выдела каждому отдельного помещения в виде квартиры. Однако Д.А. безосновательно уклоняется от заключения соответствующего соглашения, что создает препятствия остальным собственникам спорного дома для реализации своих прав.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения определением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены: прекращено право общей долевой собственности на спорный жилой дом, данный дом признан многоквартирным, сторонам по делу в счет принадлежащих им долей в праве общей долевой собственности на дом выделены изолированные части дома — квартиры и нежилые помещения.
Разрешая спор, суд установил, что стороны являются собственниками земельного участка, на котором возведен многоквартирный жилой дом. Придя к выводу, что данный жилой дом является самовольной постройкой, суд, приняв во внимание заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности объемно-планировочных и конструктивных решений жилого дома, признал за истцами право собственности на помещения в данном доме, удовлетворив тем самым заявленные исковые требования.
Не согласившись с принятым решением суда, администрация муниципального образования подала апелляционную жалобу, в которой указывалось на невозможность признания права собственности граждан на часть самовольной постройки, однако судебная коллегия по гражданским делам краевого суда оснований для отмены решения суда не усмотрела.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации по кассационной жалобе администрации муниципального образования отменила состоявшееся апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав следующее.
По смыслу действующего законодательства, совершать какие-либо юридически значимые действия, как правило, возможно только в отношении существующего объекта гражданских прав.
Обосновывая свои требования, истцы ссылались на то, что они являются собственниками долей в праве собственности на трехэтажный жилой дом общей площадью 1437,8 м2 на основании договора купли-продажи долей в праве общей долевой собственности.
К исковому заявлению были приложены соответствующие копии свидетельств о государственной регистрации права собственности, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, копия договора, из которых следует, что спорное строение является жилым домом с тремя этажами и площадью 1437,8 м2.
Как установлено судом, по данному адресу расположено шестиэтажное строение с цокольным этажом и площадью, существенно превышающей 1437,8 м2, истцы просили суд выделить реальные доли именно из этого объекта, который не зарегистрирован в установленном законом порядке.
Право общей долевой собственности истцов на данный объект, о выделе реальной доли в котором ставился вопрос в исковом заявлении, ничем не подтверждено, в связи с чем у суда не было оснований удовлетворять исковые требования о выделе реальных долей так, как они были заявлены.
В соответствии с п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
По смыслу ст. 128, 129, 222 ГК РФ, самовольное строение в гражданский оборот не введено и не может в нем участвовать: с ним нельзя совершать какие-либо гражданско-правовые сделки, право на него не может быть установлено и зарегистрировано.
Ответчиком по иску о выделе доли в имуществе может быть только собственник данного имущества, между тем лицо, осуществившее самовольную постройку, в силу п. 2 ст. 222 ГК РФ не приобретает на нее право собственности, не вправе распоряжаться постройкой и совершать какие-либо сделки до признания такого права судом, требования как к собственнику к нему предъявлены быть не могут.
Право собственности Д.А. на возведенный им объект, о выделе реальной доли из которого ставили вопрос истцы, не зарегистрировано, судом такое право не признавалось.
В ст. 222 ГК РФ закреплены три признака, при наличии хотя бы одного из которых строение, сооружение или иное недвижимое имущество являются самовольной постройкой, в частности если строение, сооружение или иное недвижимое имущество возведены:
1) на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами;
2) без получения на это необходимых разрешений;
3) с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при одновременном соблюдении следующих условий:
если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта;
если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах;
если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан (п. 3 ст. 222 ГК РФ).
При рассмотрении дела судом не были добыты и исследованы доказательства, свидетельствующие о том, что самовольная постройка может быть введена в гражданский оборот.
Суд не дал оценки тому обстоятельству, что земельный участок, на котором возведено спорное строение, имеет целевое назначение для индивидуального жилищного строительства, в результате проведенной реконструкции на земельном участке возведено шестиэтажное здание с цокольным этажом, которое признано судом многоквартирным жилым домом.
Многоквартирный жилой дом объектом индивидуального жилищного строительства не является, его нахождение на данном земельном участке не соответствует целевому назначению данного земельного участка.
Положения ст. 222 ГК РФ распространяются на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой возник новый объект.
В силу п. 4 ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — ГрК РФ) выдача разрешения на строительство не требуется в случае изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом.
Из содержания указанных правовых норм следует, что право собственности на самовольную постройку не может быть признано за лицом, в случае, если лицо осуществило реконструкцию имущества, в результате которой возник новый объект.
Согласно положениям ст. 1, 2, 8, 9, 30, 36, 44, 47, 48, 55 ГрК РФ при строительстве или реконструкции объекта недвижимости требуются, помимо наличия права на земельный участок, доказательства осуществления строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки, а также осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, при наличии в установленном порядке составленной проектной документации, разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, подтверждающих осуществление застройки с соблюдением градостроительных и строительных норм и правил, норм и правил о безопасности.
Данный порядок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации, направлен на устойчивое развитие территорий муниципальных образований, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия; создание условий для планировки территорий, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, относится к вопросам местного значения городского округа.
В силу положений ст. 51 ГрК РФ и ст. 3 Федерального закона от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт осуществляются на основании разрешения на строительство, которое выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, где планируется строительство. К заявлению о выдаче разрешения в обязательном порядке должны прилагаться помимо правоустанавливающих документов на земельный участок, также градостроительный план земельного участка, материалы проектной документации и иные предусмотренные ст. 51 названного кодекса документы.
Согласно ч. 2 ст. 48 ГрК РФ проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи).
Пунктом 11 данной статьи предусмотрено, что подготовка проектной документации осуществляется, в частности, на основании результатов инженерно-технических изысканий и градостроительного плана земельного участка.
Согласно п. 12 этой же статьи в состав проектной документации объектов капитального строительства входит пояснительная записка, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями.
В соответствии со ст. 49 ГрК РФ проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе и утверждаются при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Согласно ч. 1 ст. 47 ГрК РФ не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.
Учитывая приведенные выше нормы права, при разрешении настоящего спора суду надлежало установить, не угрожает ли самовольно возведенная постройка жизни и здоровью граждан, что устанавливается при проведении государственной экспертизы проектной документации, не нарушает ли права третьих лиц, предпринимались ли попытки ее легализации в том виде, в котором она возведена, и лишь при установлении перечисленных обстоятельств было возможно удовлетворять требования о признании на нее права собственности.
Необходимая документация на фактически возведенный объект в материалах дела отсутствует, суд не исследовал вопрос о ее наличии.
На данные обстоятельства администрация муниципального образования указывала в апелляционной жалобе, однако судебная коллегия по гражданским делам краевого суда данные доводы не проверила и не дала им оценки.
Определение N 18-КГ15-241
II. Разрешение споров, возникающих из договорных отношений
3. При отказе потребителя от исполнения договора об оказании платных образовательных услуг исполнителю оплачиваются только фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по данному договору.
З. обратилась в суд с иском к учебному заведению о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
В обоснование заявленных требований указала, что между ней и учебным заведением 19 июля 2013 г. был заключен договор на оказание платных образовательных услуг сроком до 30 июня 2023 г. По условиям данного договора она приняла на себя обязательство ежемесячно оплачивать обучение своего сына в размере 50 000 руб. Пунктом 6.3 договора была предусмотрена оплата за услуги психолого-педагогического тестирования на всех этапах обучения за весь период в сумме 200 000 руб. Обязательство по оплате данного тестирования истцом было исполнено в полном объеме, ею уплачено 200 000 руб. В связи с тем, что ответчиком изменено место оказания образовательных услуг, истец была вынуждена отказаться от договора, о чем ею было направлено ответчику заявление, содержащее также просьбу о возврате уплаченной за психолого-педагогическое тестирование суммы. Однако данное заявление учебным заведением было оставлено без удовлетворения.
Поскольку за десятилетний период обучения оплата психолого-педагогического тестирования составляет 200 000 руб., а З. отказалась от договора после первого года обучения, она просила взыскать за оставшиеся девять лет 180 000 руб., которые, по ее мнению, являются для учебного заведения неосновательным обогащением, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции, ссылаясь на положение учебного заведения о входном психолого-педагогическом тестировании обучающихся, а также на положение о приеме в учебное заведение, утвержденные директором этого учреждения 31 августа 2013 г. и 30 мая 2013 г. соответственно (далее — Положение о входном тестировании и Положение о приеме), указал, что предусмотренная договором услуга психолого-педагогического тестирования является единовременной и истцу оказана при приеме обучающегося в гимназию.
С данными выводами согласился и суд апелляционной инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с выводом судебных инстанций не согласилась по следующим основаниям.
Судом по делу установлено, что между учебным заведением (ответчиком по делу) и З. заключен договор на оказание платных образовательных услуг по программе начального и основного общего образования.
Согласно преамбуле Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — Закон о защите прав потребителей) потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; исполнителем является организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.
Как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении возмездного договора.
Согласно п. 2 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (далее — Правила), заказчиком является физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора, а исполнителем — организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.
Таким образом, Закон о защите прав потребителей распространяется в том числе на отношения, вытекающие из договора об оказании платных образовательных услуг.
Вместе с тем, как следует из обжалуемых судебных постановлений, Закон о защите прав потребителей судами не применен.
Неприменение судом указанного закона само по себе могло привести к неправильному разрешению спора вследствие неправильного определения объема прав и обязанностей сторон и неправильного распределения обязанности доказывания.
Так, в соответствии со ст. 10 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию, включая цену и условия предоставления услуги, а также информацию о правилах ее оказания.
Согласно п. 1 ст. 12 этого же закона, если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию об услуге, он вправе в разумный срок отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.
В силу ст. 13 данного закона, если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором (п. 2).
Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом (п. 4).
Как следует из пп. 9 и 10 указанных выше Правил, исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора (п. 9).
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом о защите прав потребителей и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10).
Ссылаясь на Положение о входном тестировании и на Положение о приеме, судебные инстанции не учли предусмотренную приведенными выше положениями Закона о защите прав потребителей и Правилами обязанность исполнителя предоставить заказчику полную информацию об условиях предоставления услуги и ее оплаты, исходя из которой потребитель имел бы возможность принять решение о выборе услуги либо об отказе от нее.
Обязанность доказать факт предоставления потребителю надлежащей информации об услуге также возложена законом на ответчика.
Как следует из судебных постановлений, судом не установлено, что истец была ознакомлена с условиями о том, что оплата производится только за проведение входного психолого-педагогического тестирования, отсутствуют и ссылки на то, что ответчиком представлялись какие-либо доказательства исполнения им обязанности проинформировать об этом потребителя.
Кроме того, из Положения о приеме прямо не следует, что на последующих этапах обучения психолого-педагогическое тестирование не проводится.
Отсутствие в Положении о приеме указаний на тестирование при последующих этапах обучения не исключает того, что стороны могли заключить соглашение о психолого-педагогическом тестировании на всех этапах обучения.
Положение о входном тестировании, на которое сослался суд, принято 31 августа 2013 г. — после заключения сторонами договора на оказание платных образовательных услуг, и предусматривает иной размер оплаты услуг психолого-педагогического тестирования, чем тот, который указан в договоре между сторонами.
Ссылку на Положение о приеме и на Положение о входном тестировании в части, касающейся соглашения об услуге психолого-педагогического тестирования, договор не содержит.
В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.
Довод судов первой и апелляционной инстанций о том, что внесенные истцом 200 000 руб. являются платой только за проведение входного психолого-педагогического тестирования, противоречит содержанию договора, в котором прямо указано, что это плата за услуги психолого-педагогического тестирования на всех этапах обучения за весь период обучения.
В соответствии со ст. 32 Закона о защите прав потребителей потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
Отказ истца от дальнейшего обучения сына в НОУ соответственно предполагает прекращение услуг тестирования и отсутствие у ответчика расходов на проведение его в будущем.
Между тем обжалуемыми судебными постановлениями потребителю отказано в возврате уплаченной авансом суммы.
С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам областного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Определение N 4-КГ15-60
4. Последствием признания недействительным соглашения об оказании юридической помощи, исполненного сторонами, является двусторонняя реституция.
Адвокатское образование не несет солидарной ответственности по обязательствам адвоката, возникающим из соглашений об оказании им юридической помощи доверителю.
Некоммерческая организация обратилась в суд с иском к адвокату З., адвокатскому бюро о признании недействительным соглашения об осуществлении адвокатской деятельности и оказании юридической помощи, поскольку оно подписано от имени истца неуполномоченным лицом и заключено без одобрения президентским советом юридического лица, как того требуют сделки, совершаемые на сумму, превышающую 100 000 руб., также просило взыскать солидарно с ответчиков уплаченные в рамках названного соглашения партнерством денежные средства, указывая, что услуги по оспариваемому соглашению ответчиками фактически не оказывались.
Ответчики исковые требования не признали.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения определением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.
Судом установлено и подтверждается материалами дела, что единоличным исполнительным органом некоммерческой организации является исполнительный директор.
26 мая 2010 г. на очередном общем собрании членов этой некоммерческой организации его исполнительным директором избран Ш., сведения о нем как об исполнительном директоре внесены в ЕГРЮЛ. Впоследствии его полномочия также подтверждены на очередном общем собрании 26 мая 2011 г., проведенном в г. Санкт-Петербурге.
В эту же дату — 26 мая 2011 г. общее внеочередное собрание членов названного юридического лица проводилось и в г. Москве. По результатам собрания полномочия Ш. в качестве исполнительного директора партнерства досрочно прекращены и на указанную должность избран Л. В июне 2011 года на основании протокола этого собрания в ЕГРЮЛ внесены сведения об исполнительном директоре данной некоммерческой организации Л.
Решением арбитражного суда, вступившим в законную силу 11 октября 2012 г., признаны недействительными решение внеочередного общего собрания членов некоммерческой организации (истца) от 26 мая 2011 г. в части досрочного прекращения полномочий Ш. в качестве исполнительного директора данной организации и избрания на должность исполнительного директора Л., а также распоряжение органа юстиции от 17 июня 2011 г. о регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы этого некоммерческого партнерства.
23 января 2013 г. приговором мирового судьи, вступившим в законную силу 22 марта 2013 г., Л. осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб.
Приговором установлено, что Л. представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений об исполнительном органе некоммерческого партнерства и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица.
До этого, 14 сентября 2011 г., между данной некоммерческой организацией (доверитель) в лице исполнительного директора Л., с одной стороны, и адвокатским бюро (поверенный), адвокатом З., с другой стороны, было подписано соглашение об осуществлении адвокатской деятельности и оказании юридической помощи.
Согласно условиям данного соглашения поверенный и адвокат имеют право представлять интересы клиента в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве и судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, а также представлять интересы клиента в органах государственной власти, местного самоуправления, в отношениях с физическими и (или) юридическими лицами. Виды оказываемой юридической помощи и осуществляемой адвокатской деятельности указаны в приложении к данному соглашению.
Согласно указанному соглашению оказание юридической помощи осуществляется по нескольким делам, находящимся в производстве арбитражного суда. Вознаграждение за оказание юридической помощи независимо от объема подлежит выплате (в том числе при расторжении соглашения, в том числе в одностороннем порядке) и составляет 2 580 000 руб.
Во исполнение соглашения с банковского счета истца на банковский счет адвокатского бюро 20 и 21 сентября 2011 г. переведены денежные средства в общей сумме 2 500 000 руб.
Судом также установлено, что Л. осуществлял функции исполнительного директора некоммерческой организации (истца) до 19 января 2012 г.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое соглашение от имени истца заключено неуполномоченным лицом в нарушение установленного порядка.
При этом суд пришел к выводу о взыскании в пользу истца уплаченной по соглашению денежной суммы с адвокатского бюро и адвоката З. в солидарном порядке, исходя из того, что по условиям соглашения адвокат и поверенный совместно должны были оказывать юридическую помощь.
Суд апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции, дополнительно указав, что поскольку услуги по оспариваемому соглашению оказывались именно по защите прав лица, полномочия которого оспаривались в суде, у ответчиков имелись основания полагать, что данное лицо не было уполномочено в установленном законом порядке на заключение от имени истца оспариваемого соглашения и перечисление денежных средств со счета некоммерческой организации.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в кассационном порядке признала выводы судебных инстанций ошибочными по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Согласно ч. 3 ст. 61 ГПК РФ при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом.
Вступившим в законную силу решением арбитражного суда, истцом по которому выступала указанная некоммерческая организация, было установлено, что услуги этому юридическому лицу на основании оспариваемого соглашения во исполнение обязательств по нему адвокатским бюро оказывались.
В ходе рассмотрения спора судом первой инстанции ответчики представили в материалы дела документы, подтверждающие оказание юридической помощи истцу в виде представления его интересов по нескольким делам, рассмотренным в арбитражных судах.
По смыслу п. 2 ст. 167 ГК РФ взаимные предоставления по недействительной сделке, которая была исполнена обеими сторонами, считаются равными, пока не доказано иное. При удовлетворении требования одной стороны недействительной сделки о возврате полученного другой стороной суд одновременно рассматривает вопрос о взыскании в пользу последней всего, что получила первая сторона, если иные последствия недействительности не предусмотрены законом.
Суд первой инстанции, признавая недействительным оспариваемое соглашение и применяя последствия его недействительности, в нарушение положений ст. 167 ГК РФ не разрешил вопрос о возмещении доверителем оказанных ему ответчиками услуг, тем самым нарушил предусмотренное п. 2 данной статьи право ответчиков на возврат исполненного по недействительной сделке.
Согласно п. 1 ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.
При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК РФ).
Как следует из материалов дела, заключенное сторонами соглашение предусматривало, что оказание юридических услуг по нему осуществляется адвокатом, который, в свою очередь, наделен правом привлекать в указанных целях любых третьих лиц. Условий о совместном оказании юридических услуг адвокатом З. и адвокатским бюро (поверенным) соглашение не содержит.
Права и обязанности сторон в соглашении об оказании юридической помощи адвокатом регулируются гл. 39 ГК РФ и Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ, Федеральный закон).
Пунктом 2 ст. 23 Федерального закона установлено, что к отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью адвокатского бюро, применяются правила ст. 22 данного Федерального закона, если иное не предусмотрено указанной статьей.
В силу положений п. 12 ст. 22 Федерального закона члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов.
В соответствии с п. 13 ст. 22 Федерального закона коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Российской Федерации является налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по расчетам с доверителями и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным учредительными документами коллегии адвокатов.
Из пп. 1, 2, 4, 6 ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ следует, что адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем, которое представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.
Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо перечислению на расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.
Таким образом, закон определяет основные принципы взаимоотношений между адвокатским образованием, адвокатом и доверителем, согласно которым адвокатское образование не является стороной в соглашении об оказании юридической помощи.
Следовательно, ни в силу закона, ни в силу договора солидарная обязанность перед истцом у ответчиков (адвокатского бюро и адвоката З.) по заявленным требованиям наступить не могла.
Определение N 5-КГ15-198
III. Разрешение споров, связанных с семейными отношениями
5. Объект недвижимости, приобретенный (построенный, реконструированный) с использованием средств материнского капитала, находится в общей долевой собственности супругов и детей.
Б.В. обратился в суд с иском к Б.Ю. с учетом уточненных требований о разделе в равных долях объекта незавершенного строительства (степень готовности 36%) общей площадью 51,8 кв.м, мотивируя свои требования тем, что состоял с ответчиком в браке, спорное имущество является совместно нажитым.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения определением суда апелляционной инстанции, иск удовлетворен. За Б.В. признано право собственности на доли в праве собственности на объект незавершенного строительства (индивидуальный жилой дом). Право собственности Б.Ю. на доли спорного объекта прекращено.
Как установлено судом, Б.В. и Б.Ю. состояли в браке с 25 августа 2007 г. по 29 августа 2014 г., от брака имеют двоих детей.
Решением суда, вступившим в законную силу, за Б.Ю. признано право собственности на незавершенный строительством индивидуальный жилой дом.
Согласно материалам дела в 2011 и 2012 годах управление пенсионного фонда перечислило Б.Ю. средства материнского (семейного) капитала.
Согласно обязательству от 22 июля 2011 г. Б.Ю., имеющая средства материнского (семейного) капитала, осуществляя строительство жилого дома без привлечения строительной организации с использованием денежных средств материнского (семейного) капитала, обязалась в течение шести месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства оформить эту недвижимость в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга, детей с определением размера долей по соглашению.
Установлено, что в строительство спорного дома были вложены средства материнского капитала, полученные Б.Ю.
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции (и с ним согласился суд апелляционной инстанции) исходил из того, что строительство спорного объекта недвижимости производилось во время брака, имущество является совместно нажитым, а поскольку дом не достроен и не введен в эксплуатацию, доли детей не могут быть определены.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в кассационном порядке отменила указанные судебные постановления с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных условий.
В п. 1 ч. 1 ст. 10 данного федерального закона указано, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.
В силу ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
Таким образом, специально регулирующим соответствующие отношения Федеральным законом определен круг субъектов, в чью собственность поступает жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала, и установлен вид собственности — общая долевая, возникающей у них на приобретенное жилье.
В соответствии со ст. 38, 39 СК РФ разделу между супругами подлежит только общее имущество, нажитое ими во время брака. К нажитому во время брака имуществу (общему имуществу супругов) относятся в том числе полученные каждым из них денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (п. 2 ст. 34 СК РФ).
Между тем, имея специальное целевое назначение, средства материнского (семейного) капитала не являются совместно нажитым имуществом супругов и не могут быть разделены между ними.
Исходя из положений указанных норм права дети должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный (построенный, реконструированный) с использованием средств материнского капитала.
Таким образом, спорный объект недвижимости подлежит разделу с учетом требований ст. 38, 39 СК РФ и ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
При таких обстоятельствах вывод судов о том, что имущество является совместно нажитым, а поскольку дом не достроен и не введен в эксплуатацию, то доли детей не могут быть определены, противоречит закону.
Определение N 18-КГ15-224
IV. Разрешение споров, связанных с трудовыми
и социальными отношениями
6. Конкурсный управляющий, осуществляя права и обязанности работодателя в период конкурсного производства, вправе увольнять работников организации-должника в порядке и на условиях, которые предусмотрены трудовым законодательством.
А. обратилась в суд с иском к банку о восстановлении на работе, предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, взыскании компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей.
В обоснование иска заявитель указала, что работала в банке в должности специалиста по работе с залогами управления кредитования, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. Решением арбитражного суда от 21 января 2014 г. банк (ответчик) признан банкротом и открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего банком возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Приказом от 2 июня 2014 г. А. уволена с работы в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией организации. Истец полагала увольнение незаконным, поскольку ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. Вместе с тем определение о завершении конкурсного производства в отношении работодателя арбитражным судом не выносилось, из государственного реестра юридических лиц банк не исключен.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения определением суда апелляционной инстанции, иск удовлетворен частично. А. восстановлена в должности с 3 июня 2014 г., с банка в пользу А. взыскана компенсация морального вреда в размере 2000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. С банка в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 400 рублей. Суд также указал, что решение в части восстановления на работе подлежит немедленному исполнению.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в кассационном порядке признала, что при рассмотрении данного дела судами первой и апелляционной инстанций были допущены существенные нарушения норм материального права, которые выразились в следующем.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ).
Согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ расторжение трудового договора с женщиной, в частности имеющей ребенка в возрасте до трех лет, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пп. 1, 5 — 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 данного кодекса).
В п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (далее — постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2) разъяснено, что основанием для увольнения работников по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ может служить решение о ликвидации юридического лица, то есть решение о прекращении его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, принятое в установленном законом порядке (ст. 61 ГК РФ).
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц (п. 9 ст. 63 ГК РФ).
Спорные правоотношения в настоящем случае возникли в связи с увольнением с должности специалиста по работе с залогами управления кредитования банка А. по приказу представителя конкурсного управляющего банка от 2 июня 2014 г. по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией организации.
Кредитная организация — юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности»).
Приказом Банка России от 20 ноября 2013 г. у банка с 20 ноября 2013 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности». В связи с отзывом лицензии осуществление коммерческим банком банковской деятельности прекращено 20 ноября 2013 г.
Согласно ч. 7 ст. 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции, действующей на момент отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций) после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций кредитная организация должна быть ликвидирована в соответствии с требованиями ст. 23.1 этого Федерального закона, а в случае признания ее банкротом — в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
Особенности оснований и процедур признания кредитных организаций несостоятельными (банкротами) и их ликвидации в порядке конкурсного производства установлены Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (п. 1 ст. 1) (далее — Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций») (здесь и далее приводятся нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в редакции, действующей на момент вынесения арбитражным судом 21 января 2014 г. решения о признании банка несостоятельным (банкротом).
Дело о банкротстве кредитной организации рассматривается арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» или в неурегулированных ими случаях Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 50.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»).
Арбитражный суд, принявший решение о признании кредитной организации банкротом, направляет данное решение в Банк России, а также в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, для внесения им в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что кредитная организация находится в процессе ликвидации (п. 9 ст. 50.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»).
В соответствии с п. 2 ст. 20 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.
В силу пп. 1 и 2 ст. 182 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») (здесь и далее приводятся нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции, действовавшей на момент вынесения арбитражным судом 21 января 2014 г. решения о признании банка несостоятельным (банкротом) по результатам рассмотрения заявления о признании кредитной организации банкротом арбитражным судом может быть принято одно из следующих решений: о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства; об отказе в признании кредитной организации банкротом. В случае принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом конкурсное производство проводится в порядке, установленном данным Федеральным законом, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
Конкурсное производство вводится сроком на один год. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, не более чем на шесть месяцев (п. 2 ст. 50.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»).
При принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном ст. 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», о чем выносит определение. Конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве (ст. 127 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
В соответствии с п. 1 ст. 50.21 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсный управляющий осуществляет полномочия руководителя кредитной организации и иных органов управления кредитной организации в пределах, порядке и на условиях, которые установлены данным Федеральным законом.
Согласно подп. 3 п. 3 ст. 50.21 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсный управляющий обязан уведомить работников кредитной организации о предстоящем увольнении не позднее одного месяца со дня введения конкурсного производства.
Конкурсный управляющий вправе увольнять работников кредитной организации, в том числе руководителя кредитной организации, изменять условия трудовых договоров, переводить работников на другую работу в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом (подп. 2 п. 4 ст. 50.21 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»).
Из содержания приведенных выше норм законодательства следует, что после отзыва у кредитной организации Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитная организация должна быть ликвидирована. Если ко дню отзыва лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации имеются признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», то ликвидация кредитной организации проводится в порядке конкурсного производства, который является длительным по продолжительности процессом, начинающимся с признания решением арбитражного суда кредитной организации банкротом и введения конкурсного производства и завершающимся по окончании конкурсного производства (о чем выносится определение арбитражного суда) внесением сведений о прекращении существования кредитной организации в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. В период конкурсного производства права и обязанности работодателя осуществляются конкурсным управляющим, который законом наделен правом увольнять работников кредитной организации в порядке и на условиях, которые предусмотрены трудовым законодательством, в том числе по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в течение всего периода конкурсного производства.
Судом по делу установлено, что банк (ответчик) решением арбитражного суда от 21 января 2014 г. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим банка назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». В единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с п. 2 ст. 20 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесена запись о том, что банк находится в стадии ликвидации.
При таких обстоятельствах расторжение конкурсным управляющим кредитной организации трудовых договоров с работниками этой организации по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением требований, установленных ст. 178 (выходные пособия) и 180 ТК РФ (гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации), до вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства является правомерным, поскольку осуществляется конкурсным управляющим в рамках полномочий, предоставленных ему Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
Вывод судов первой и апелляционной инстанций о незаконности расторжения с А. трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с ликвидацией организации) со ссылкой на то, что арбитражным судом определение о завершении конкурсного производства в отношении банка (ответчика) ни на момент увольнения истца, ни в период рассмотрения данного спора не вынесено, что ликвидация банка не завершена и банк из единого государственного реестра юридических лиц не исключен, является ошибочным, основанным на неправильном толковании и применении норм материального права, регулирующих спорные отношения, и разъяснений п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2.
Судебными инстанциями не принято во внимание, что незавершение конкурсного производства в отношении кредитной организации и отсутствие в едином государственном реестре юридических лиц сведений о ликвидации кредитной организации не препятствуют конкурсному управляющему увольнять работников кредитной организации по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с соблюдением требований ст. 178 и 180 ТК РФ.
Таким образом, у ответчика имелось основание для расторжения с А. трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией банка, которая осуществлялась в порядке конкурсного производства по решению арбитражного суда, о процессе ликвидации была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц.
Завершения процедуры ликвидации кредитной организации, подтверждаемой внесением в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, для увольнения работника по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не требуется, в то время как судебные инстанции полагали обратное, то есть исходили из необходимости наличия факта завершения процедуры ликвидации кредитной организации, что нельзя признать правильным.
С учетом того, что порядок и условия увольнения А. по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией организации ответчиком были соблюдены и такое основание для ее увольнения у ответчика действительно имелось, исковые требования А. о восстановлении на работе в должности специалиста по работе с залогами управления кредитования и компенсации морального вреда не подлежали удовлетворению.
Судебная коллегия также указала на следующее.
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» признан утратившим силу в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».
С 23 декабря 2014 г. порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, а также особенности оснований и порядка признания кредитных организаций несостоятельными (банкротами) и их ликвидации в порядке конкурсного производства установлены параграфом 4.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (п. 1 ст. 189.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
В действующей с 23 декабря 2014 г. редакции Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» содержатся аналогичные по содержанию нормам Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (п. 1, подп. 3 п. 3 и подп. 2 п. 4 ст. 50.21) нормы, определяющие полномочия, права и обязанности конкурсного управляющего, в частности право осуществлять полномочия руководителя кредитной организации, обязанность уведомить работников кредитной организации о предстоящем увольнении, право увольнять работников кредитной организации, в том числе руководителя кредитной организации, в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом (п. 1, подп. 2 п. 3 и подп. 2 п. 4 ст. 189.78 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления в части удовлетворения исковых требований А. и, не передавая дело на новое рассмотрение, приняла новое решение об отказе в удовлетворении иска А. к банку о восстановлении на работе, взыскании компенсации морального вреда.
Определение N 48-КГ15-10
7. Работодатели, осуществляющие предпринимательскую и (или) иную экономическую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, вправе в рамках коллективного договора, локального нормативного акта или в трудовом договоре устанавливать размер, условия и порядок предоставления работникам компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, отличные от того, как это предусмотрено для работников организаций, финансируемых из бюджета.
Л. обратился в суд с иском к открытому акционерному обществу «Федеральная пассажирская компания» (далее — ОАО «ФПК»), в котором просил признать незаконным отказ ответчика возместить в полном объеме понесенные расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно, взыскать понесенные расходы на оплату проезда в июне 2014 года на железнодорожном транспорте от места жительства до места нахождения аэропорта в г. Москве и обратно в размере 6 981,80 руб., компенсацию морального вреда в размере 3000 руб., возместить судебные расходы.
В обоснование своих требований Л. указал, что работает в структурном подразделении ОАО «ФПК».
Приказом начальника структурного подразделения АО «ФПК» за период работы с 1 апреля 2014 г. по 31 марта 2015 г. Л. был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней со 2 по 30 июня 2014 г.
Находясь в отпуске, часть которого он провел в Турецкой Республике, Л. от места своего жительства проехал железнодорожным транспортом до г. Москвы и обратно по проездным документам, потратив на их приобретение 6 981,80 руб.
В соответствии с пп. 3.4.1 и 3.4.2 коллективного договора ОАО «ФПК» Л. 3 сентября 2014 г. обратился к работодателю с заявлением о компенсации фактически понесенных им расходов на приобретение железнодорожных билетов от места жительства до ближайшего к месту использования отпуска аэропорта на территории Российской Федерации и обратно.
Понесенные Л. расходы на авиаперелет по территории Российской Федерации были ответчиком компенсированы, однако в возмещении расходов на проезд железнодорожным транспортом от места жительства до г. Москвы и обратно Л. отказано письмом от 4 сентября 2014 г., в связи с отсутствием оснований для компенсации Л. в 2014 году данных расходов в соответствии с положениями локальных нормативных актов АО «ФПК».
Полагая, что работодателем нарушено его право на возмещение в полном объеме расходов на проезд к месту отпуска и обратно, установленное в ст. 325 ТК РФ, Л. просил суд взыскать с ответчика понесенные им расходы на проезд железнодорожным транспортом до аэропорта в г. Москве и обратно в размере 6 981,80 руб., компенсацию морального вреда в размере 3000 руб., возместить судебные расходы.
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования Л., суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком нарушено установленное частью первой ст. 325 ТК РФ право истца на полное возмещение стоимости проезда один раз в два года за счет средств работодателя к месту использования отпуска и обратно.
При этом суд исходил из того, что п. 3.4.2 коллективного договора ОАО «ФПК» и основанное на нем решение ОАО «ФПК» об оплате Л. только части затрат на проезд к месту использования отпуска и обратно в размере стоимости авиаперелета без оплаты проезда от места жительства до аэропорта железнодорожным транспортом и обратно, противоречат требованиям трудового законодательства, так как ухудшают положение работника по сравнению с гарантиями, установленными трудовым законодательством.
С данными выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы судов первой и апелляционной инстанций ошибочными, основанными на неправильном применении и толковании норм материального права, регулирующих спорные отношения.
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» устанавливает гарантии и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Севера.
В соответствии со ст. 33 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (в редакции Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 50-ФЗ) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации.
В силу части первой ст. 313 ТК РФ государственные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются данным кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно части первой ст. 325 ТК РФ лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации.
Частью восьмой ст. 325 ТК РФ (в редакции Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 50-ФЗ) предусмотрено, что размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в государственных органах субъектов Российской Федерации, государственных учреждениях субъектов Российской Федерации, устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, — нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, у других работодателей, — коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 9 февраля 2012 г. N 2-П «По делу о проверке конституционности части восьмой статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.Г. Труновой», компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно применительно к гражданам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, является дополнительной гарантией реализации ими своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставление которой непосредственно из Конституции Российской Федерации не вытекает (п. 4 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 2-П).
Вводя правовой механизм, предусматривающий применительно к работодателям, не относящимся к бюджетной сфере, определение размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в коллективных договорах, локальных нормативных актах, трудовых договорах, федеральный законодатель преследовал цель защитить таких работодателей, на свой риск осуществляющих предпринимательскую и (или) иную экономическую деятельность, от непосильного обременения и одновременно — через институт социального партнерства — гарантировать участие работников и их представителей в принятии соответствующего согласованного решения в одной из указанных правовых форм. Тем самым на основе принципов трудового законодательства, включая сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, достигается баланс интересов граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и их работодателей. Такое правовое регулирование направлено на учет особенностей правового положения работодателя, не относящегося к бюджетной сфере, и вместе с тем не позволяет ему лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления компенсации, поскольку предполагает определение ее размера, порядка и условий предоставления при заключении коллективного договора или трудового договора либо в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (п. 3 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 2-П).
В правоприменительной практике часть восьмая ст. 325 ТК РФ рассматривается как допускающая установление размера, условий и порядка соответствующей компенсации для лиц, работающих у работодателя, не относящегося к бюджетной сфере, отличное от предусматриваемых для работников организаций, финансируемых из бюджета, что может приводить к различиям в объеме дополнительных гарантий, предоставление которых обусловлено необходимостью обеспечения реализации прав на отдых и на охрану здоровья при работе в неблагоприятных природно-климатических условиях. Между тем такие различия должны быть оправданными, обоснованными и соразмерными конституционно значимым целям. Это означает, что при определении размера, условий и порядка предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно необходимо обеспечивать их соответствие предназначению данной компенсации как гарантирующей работнику возможность выехать за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для отдыха и оздоровления (п. 5 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 2-П).
Таким образом, из приведенных выше нормативных положений и правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации следует, что работодатели, не относящиеся к бюджетной сфере и осуществляющие предпринимательскую и (или) иную экономическую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, самостоятельно в рамках коллективного договора, локального нормативного акта или в трудовом договоре с работником устанавливают размер, условия и порядок предоставления работникам компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. В случае достижения соглашения между сторонами трудовых правоотношений о выплате такой компенсации ее объем может быть отличным от того, который установлен в частях первой — седьмой ст. 325 ТК РФ, но в то же время учитывающим целевое назначение такой компенсации (максимально способствовать обеспечению выезда работника за пределы неблагоприятной природно-климатической зоны).
В связи с тем, что АО «ФПК» не является организацией, финансируемой из федерального бюджета и других бюджетов (регионального и муниципального), отношения, связанные с предоставлением социальных гарантий, компенсаций и льгот работникам АО «ФПК», регулируются коллективным договором ОАО «ФПК» на 2013 — 2014 годы (далее — Коллективный договор), заключенным представителями работодателя и работников данного общества 28 декабря 2012 г., а также иными действующими в данном обществе локальными нормативными актами.
Раздел 3.4 Коллективного договора предусматривает ряд социальных гарантий, предоставляемых работникам АО «ФПК» и членам их семей.
Так, в соответствии с п. 3.4.1 Коллективного договора работникам, находящимся на их иждивении детям в возрасте до 18 лет (не более двух), детям работников, погибших в результате несчастного случая на производстве, до достижения ими возраста 18 лет предоставляется право бесплатного проезда по личным надобностям один раз в год по разовому транспортному требованию в купейном вагоне пассажирских поездов всех категорий от пункта отправления до пункта назначения на территории Российской Федерации и обратно.
Работники также имеют право бесплатного проезда на расстояние 200 км в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте общего пользования от места жительства до места работы, учебы и обратно.
При этом порядок предоставления права бесплатного проезда на железнодорожном транспорте общего пользования определяется локальными нормативными актами компании с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации АО «ФПК».
В силу п. 3.4.2 Коллективного договора (в редакции дополнительного соглашения от 31 марта 2014 г.) работникам структурных подразделений компании, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также находящимся на их иждивении детям в возрасте до 18 лет (не более двух) один раз в два года компенсируется сумма фактически понесенных расходов в размере стоимости авиабилета от ближайшего к пункту проживания аэропорта до ближайшего к месту использования отпуска аэропорта на территории Российской Федерации и обратно, превышающая стоимость проезда железнодорожным транспортом, предусмотренного п. 3.4.1 Коллективного договора, в соответствии с локальными нормативными актами компании.
В случае предоставления работникам компенсации стоимости авиабилета право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте от пункта проживания до ближайшего к пункту проживания аэропорта им не предоставляется (абзац второй пункта 3.4.2. Коллективного договора).
Согласно п. 1.1 Порядка выплаты компенсации работникам ОАО «ФПК», работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и находящимся на их иждивении детям в возрасте до 18 лет (не более двух) при использовании воздушного транспорта — приложения к распоряжению ОАО «ФПК» от 25 июля 2014 г. N 892р (далее — Порядок выплаты компенсации) — при использовании в текущем году права бесплатного проезда по личным надобностям по разовому транспортному требованию, предусмотренному п. 3.4.1 Коллективного договора, расходы на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации воздушным транспортом компенсируются в размере суммы разницы в стоимости авиабилета и проезда в купейном вагоне пассажирских поездов по маршруту, аналогичному указанному в авиабилете, при ее наличии.
Пунктом 1.2 Порядка выплаты компенсации предусмотрено, что при отказе работника в текущем году от права бесплатного проезда по личным надобностям по разовому транспортному требованию, предусмотренному п. 3.4.1 Коллективного договора, расходы на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации воздушным транспортом компенсируются исходя из стоимости, указанной в авиабилетах, то есть фактически понесенных расходов.
Таким образом, определенные в Коллективном договоре и локальных нормативных актах АО «ФПК» порядок и условия выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в совокупности с иными предусмотренными этими актами социальными гарантиями работникам — такими как право бесплатного проезда по личным надобностям один раз в год по разовому требованию в купейном вагоне пассажирских поездов всех категорий от пункта отправления до пункта назначения по территории Российской Федерации — обеспечивают работнику возможность выехать за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для отдыха и оздоровления.
Ввиду изложенного выводы судебных инстанций о противоречии положений п. 3.4.2 Коллективного договора части первой ст. 325 ТК РФ, о несоответствии установленной Коллективным договором оплаты работникам АО «ФПК» расходов на проезд к месту использования отпуска и обратно (в части ее размера) назначению данной компенсации, о ее неоправданном занижении и необеспечении работнику возможности выезда за пределы неблагоприятной природно-климатической зоны основаны на неправильном толковании норм материального права и действующих в АО «ФПК» локальных нормативных актов, регулирующих спорные отношения, а также сделаны без учета правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 9 февраля 2012 г. N 2-П «По делу о проверке конституционности части восьмой статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.Г. Труновой».
Поскольку, как установлено судом, в июле 2014 года работодатель компенсировал Л. фактически понесенные расходы на оплату стоимости авиабилета до ближайшего к месту использования отпуска аэропорта на территории Российской Федерации и обратно в порядке, установленном локальными нормативными актами (пп. 3.4.1, 3.4.2 Коллективного договора, пп. 1.1, 1.2 Порядка выплаты компенсации), оснований для компенсации Л. расходов на проезд железнодорожным транспортом от места жительства до аэропорта в г. Москве и обратно не имелось, так как Коллективный договор и локальные нормативные акты АО «ФПК» такой обязанности работодателя в данном случае не предусматривают, но в то же время определенные в них порядок и условия оплаты проезда работникам АО «ФПК» по личным надобностям, в том числе и к месту использования отпуска и обратно для работников структурных подразделений, расположенных в районах Крайнего Севера (пп. 3.4.1, 3.4.2 Коллективного договора), в своей совокупности обеспечивали Л. возможность выезда за пределы неблагоприятной природно-климатической зоны.
С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и, не передавая дело на новое рассмотрение, приняла новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований Л.
Определение N 8-КГ15-18
8. Вдовы граждан, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, не относятся к лицам, имеющим право на получение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров, предусмотренной п. 13 части первой ст. 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
М. 15 июня 2014 г. обратилась в суд с иском к органу социальной защиты населения (далее — УСЗН) о признании незаконным отказа в назначении ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров, взыскании денежных средств, об обязании назначить и выплачивать ежемесячную компенсацию, указав в обоснование своих требований на то, что она является вдовой инвалида, умершего в связи с участием в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, получает ежемесячную денежную компенсацию в связи с потерей кормильца.
Судом установлено, что М. является вдовой умершего 16 ноября 2000 г. М.Г. — инвалида вследствие заболевания, связанного с участием в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее — ЧАЭС). Причина смерти М.Г. связана с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.
При жизни М.Г. пользовался мерами социальной поддержки, предусмотренными Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее — Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 или Закон), в том числе являлся получателем ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров.
Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования М., суд первой инстанции, руководствуясь положениями ч. 4 ст. 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 и п. 1 Правил выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», исходил из того, что поскольку супруг М., инвалид вследствие чернобыльской катастрофы, при жизни являлся получателем ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров, то у М. в связи со смертью супруга также возникло право на получение данной меры социальной поддержки. Суд указал на то, что истец, как супруга, является членом семьи М.Г. — инвалида I группы, умершего по причине, связанной с участием в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, следовательно, она относится к числу граждан, которым выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров осуществляются в соответствии с названными Правилами с учетом внесенных в них изменений постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. N 751, вступивших в силу с 12 октября 2010 г.
На основании данного вывода суд признал незаконным отказ ответчика назначить М. ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров. Ссылаясь на п. 6 Правил выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, суд обязал ответчика назначить и выплачивать М. ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров начиная с марта 2014 года, то есть с месяца, следующего за месяцем подачи ею заявления о назначении данной выплаты.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии у М. права на получение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров ошибочными и основанными на неправильном толковании и применении норм материального права, регулирующих спорные отношения.
Частью 4 ст. 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ) установлено, что меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 2, 3, 7, 8, 12 — 15 части первой названной статьи, распространяются на семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на ЧАЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также на семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки, указанные в данной статье.
Из содержания приведенной правовой нормы следует, что после смерти инвалида вследствие чернобыльской катастрофы меры социальной поддержки, указанные в ст. 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1, распространяются на членов его семьи в том случае, если они распространялись на них и при жизни получателя социальной поддержки.
Согласно п. 13 ч. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 гражданам, указанным в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 13 этого закона (граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа названных в п. 2 ч. 13 Закона), гарантируется ежемесячная денежная компенсация им, а также проживающим с ними детям, не достигшим 14-летнего возраста, на приобретение продовольственных товаров в размере 300 руб.
В данной норме Закона определен конкретный круг лиц, имеющих право на ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров: сами граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС (среди них инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы), и не достигшие 14-летнего возраста дети, проживающие с ними. Другие члены семьи указанных граждан не названы в качестве субъектов, имеющих право на такую компенсацию.
В спорных правоотношениях, установленных судом по делу, М. имеет статус вдовы инвалида I группы, умершего по причине, связанной с участием в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.
Поскольку право на получение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров, предусмотренной п. 13 ч. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1, не распространялось на жен инвалидов, получивших заболевание вследствие чернобыльской катастрофы, при их жизни, соответственно, оно не распространяется на них и после смерти инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы.
Между тем судами первой и апелляционной инстанций неправильно истолкованы подлежащие применению к спорным отношениям положения ст. 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 и, как следствие, дана ошибочная оценка, как незаконного, отказа ответчика назначить М. денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров.
Неправильно истолкованы судами первой и апелляционной инстанций и положения п. 1 Правил выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС.
Статьей 4 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 установлено, что меры социальной поддержки, предусмотренные Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В целях реализации названного закона было принято постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», которым утверждены в том числе Правила выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС («Правила предоставления ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» — наименование в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 4 марта 2015 г. N 190) (далее также — Правила).
В п. 1 Правил перечислены лица, которым выплачивается ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (далее также — компенсация). Жены и вдовы инвалидов, получивших заболевание вследствие чернобыльской катастрофы, в их числе не указаны.
С учетом того, что в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров выплачивается гражданам, указанным в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 13 данного закона, а также детям этих граждан, проживающим с ними и не достигшим 14-летнего возраста, в целях соблюдения прав детей на компенсацию после смерти кормильца из числа указанных граждан постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. N 751 в п. 1 Правил были внесены соответствующие изменения, касающиеся выплаты компенсации семьям умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки, указанные в ст. 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1.
При этом постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. N 751 круг лиц, имеющих право на ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров, по сравнению с п. 13 ч. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 не расширялся, как полагали суды первой и апелляционной инстанций при разрешении спора. Изменениями, внесенными данным постановлением в п. 2 Правил, дополняющими перечень документов, на основании которых назначается ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров, не предусмотрено представление членами семьи умершего кормильца (а именно вдовой (вдовцом) заверенной копии свидетельства о браке, что являлось бы подтверждением того, что компенсация выплачивается в том числе и вдовам (вдовцам) граждан, перечисленных в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1.
Ввиду приведенных обстоятельств вывод судебных инстанций о признании за М. права на получение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров как за супругой инвалида, умершего по причине, связанной с участием в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, Судебная коллегия признала основанным на неправильном толковании и применении норм материального права к спорным отношениям.
В силу положений п. 13 ч. 1 и ч. 4 ст. Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 правовых оснований для признания за истцом права на ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров не имелось, соответственно исковые требования не подлежали удовлетворению.
С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и приняла новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.
Определение N 5-КГ15-125
V. Процессуальные вопросы
9. Недоказанность размера имущественного вреда не является основанием для отказа в применении к причинителю вреда мер гражданско-правовой ответственности.
М. обратилась в суд с иском к Ф. о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры, компенсации морального вреда, указав, что залив ее квартиры произошел по причине самовольно произведенной ответчиком перепланировки инженерных коммуникаций в принадлежащей ему и Ф. на праве собственности квартире.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что истец в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ не представила доказательств размера причиненного ей ущерба, а материалы дела не позволяют установить размер ущерба, поскольку, фактическое изложение в тексте иска таблицы видов работ с указанием их объема, стоимости и стоимости материалов не является надлежащим доказательством причинения ущерба и его размера имуществу истца, не соответствует ст. 55 ГПК РФ и не может являться допустимым доказательством, подтверждающим причинение и размер ущерба, иных доказательств истцом представлено не было.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив решение без изменения.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в кассационном порядке признала выводы суда ошибочными по следующим основаниям.
Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду (ст. 2 ГПК РФ).
В соответствии со ст. 194 ГПК РФ решением является постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу. Решение должно быть законным и обоснованным (ч. 1 ст. 195 ГПК РФ).
Как разъяснено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении», решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ).
Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59 — 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов (п. 3 постановления Пленума).
Согласно ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Как предусмотрено п. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу п. 1 ст. 15 ГК РФ, в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.
При таких обстоятельствах обязанностью суда, предусмотренной действующим законодательством, было выяснение действительных обстоятельств дела, а именно, установление факта залива и лица, виновного в произошедшем заливе, факта причинения вреда имуществу истца и его оценки в материальном выражении, однако суд от данной обязанности уклонился.
В обоснование своих требований истцом представлен акт жилищной организации с описанием выявленных на месте повреждений, причиненных заливом, суд также наделен иными процессуальными возможностями, которые позволяли ему достоверно установить размер причиненных убытков, однако в нарушение действующего законодательства суд первой инстанции такими возможностями не воспользовался.
При этом обязанность по возмещению причиненного вреда и случаи, в которых возможно освобождение от такой обязанности, предусмотрены законом. Недоказанность размера причиненного ущерба к основаниям, позволяющим не возлагать гражданско-правовую ответственность на причинителя вреда, действующим законодательством не отнесена.
Суд апелляционной инстанции не исправил ошибки, допущенные при рассмотрении дела нижестоящим судом.
Допущенные судом апелляционной инстанции, проверявшим законность решения суда первой инстанции, нарушения норм права являются существенными и непреодолимыми, в связи с чем могут быть исправлены только посредством отмены апелляционного определения.
Учитывая, что повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционных жалобы, представления и в рамках тех требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции»), а также принимая во внимание необходимость соблюдения разумных сроков судопроизводства (ст. 6.1 ГПК Российской Федерации), Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, отменив апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам областного суда, направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Определение N 46-КГ15-34
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ
I. Практика применения положений законодательства о банкротстве
1. При наличии доказательств, свидетельствующих о существовании причинно-следственной связи между действиями контролирующего лица и банкротством подконтрольной организации, контролирующее лицо несет бремя доказывания обоснованности и разумности своих действий и их совершения без цели причинения вреда кредиторам подконтрольной организации.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества (далее также — должник) конкурсный управляющий обратился с заявлением о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности компании, являющейся учредителем и единственным участником общества (далее также — контролирующее лицо), и его бывшего руководителя.
Конкурсный управляющий обосновывал свои требования в том числе тем, что по материалам налоговой проверки общества поступавшие ему от реализации продукции денежные средства перечислялись по цепочке расчетных счетов третьих лиц и спустя непродолжительное время аккумулировались на расчетных счетах компании. По мнению заявителя, такое движение денежных средств не было связано с реальными хозяйственными операциями и направлено на вывод активов должника в пользу контролирующего лица. Кроме того, компания изъяла у общества имущество производственного назначения, что повлекло невозможность осуществления последним основной хозяйственной деятельности.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, удовлетворены требования к бывшему руководителю и отказано в удовлетворении требований к компании.
Суды пришли к выводу, что неплатежеспособность общества наступила по вине руководителя. Суды, сославшись на положения п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции до изменений, внесенных Федеральным законом от 28 апреля 2009 г. N 73-ФЗ, указали на отсутствие доказательств совершения компанией как участником общества действий, определяющих порядок ведения им деятельности, прямо или косвенно направленных на доведение его до банкротства, поскольку признаки банкротства возникли у должника до совершения компанией указанных в заявлении действий.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты в части отказа в удовлетворении требований к компании и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Из системного толкования абзаца второго п. 3 ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), п. 3 ст. 3 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 4 ст. 10 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» необходимым условием возложения субсидиарной ответственности на участника является наличие причинно-следственной связи между использованием им своих прав и (или) возможностей в отношении контролируемого хозяйствующего субъекта и совокупностью юридически значимых действий, совершенных подконтрольной организацией, результатом которых стала ее несостоятельность (банкротство).
Совершение компанией указанных действий по перечислению выручки и отчуждению производственных объектов общества вызывают объективные сомнения в том, что компания руководствовалась интересами дочернего общества.
При названных обстоятельствах в силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) на компанию перешло бремя доказывания того, что возникновение у нее права собственности по указанным конкурсным управляющим операциям явилось следствием обычного хозяйственного оборота, а не вызвано использованием участником его возможностей, касающихся определения действий общества, во вред кредиторам должника.
Именно компания как сторона договорных и внедоговорных отношений имела возможность раскрыть информацию по меньшей мере о сделках, связанных с перечислением денежных средств на принадлежащие ей счета со стороны ее контрагентов, подтвердив реальный характер операций и их экономическую обоснованность. Кроме этого, у компании не имелось объективных препятствий для представления сведений об истинных причинах отчуждения имущества общества.
Суды не дали оценку поведению компании и в нарушение требований ч. 2 ст. 9 АПК РФ возложили на кредиторов общества негативные последствия несовершения контролирующим лицом процессуальных действий по представлению доказательств.
Кроме того, разрешая вопрос о том, явилось ли банкротство общества следствием поведения его участника, суды не учли положения ст. 2 Закона о банкротстве, ошибочно отождествив понятия «неплатежеспособность» и «банкротство». Момент возникновения признаков неплатежеспособности хозяйствующего субъекта может не совпадать с моментом его фактической несостоятельности (банкротства).
Субсидиарная ответственность участника наступает тогда, когда в результате его поведения должнику не просто причинен имущественный вред, а он стал банкротом, то есть лицом, которое не может удовлетворить требования кредиторов и исполнить публичные обязанности вследствие значительного уменьшения объема своих активов под влиянием контролирующего лица.
В связи с этим судам следовало проверить доводы конкурсного управляющего о том, что на фоне недостаточности денежных средств у общества (появления первых признаков неплатежеспособности) действия компании по изъятию выручки и имущества, используемого в производственных целях, усугубили и без того затруднительное финансовое состояние должника, что привело к банкротству, которое в такой ситуации стало неизбежным.
Определение N 302-ЭС14-1472
2. В силу п. 2 ст. 10 Закона о несостоятельности (банкротстве) презюмируется наличие причинно-следственной связи между противоправным и виновным бездействием руководителя организации в виде неподачи заявления о признании должника банкротом и вредом, причиненным кредиторам организации из-за невозможности удовлетворения возросшей перед ними задолженности.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества налоговый орган обратился в суд с заявлением о привлечении на основании п. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности по непогашенным должником обязательным платежам.
Заявитель ссылался на то, что в период, в который образовалась недоимка, общество отвечало признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества, поэтому руководитель должен был подать в суд заявление о признании общества несостоятельным (банкротом). Эта обязанность не была им исполнена. Дело о банкротстве общества возбуждено через год по заявлению конкурсного кредитора.
Удовлетворяя требование уполномоченного органа о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности, суды первой и апелляционной инстанций признали его бездействие неправомерным.
Отменяя судебные акты нижестоящих судов, арбитражный суд округа указал на то, что возникновение обязанности общества по уплате обязательных платежей не обусловлено противоправным бездействием руководителя, выразившемся в неподаче в арбитражный суд в срок до заявления о признании общества банкротом, а вызвано объективными обстоятельствами — наличием налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость (операций по реализации товаров (работ, услуг)) и объекта обложения страховыми взносами (выплат в пользу работников общества в рамках трудовых отношений). В связи с этим арбитражный суд округа пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между допущенным руководителем нарушением (его неправомерным бездействием) и негативными последствиями в виде неперечисления должником в бюджет и государственные внебюджетные фонды обязательных платежей.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Исходя из положений ст. 10 ГК РФ, руководитель хозяйственного общества обязан действовать добросовестно не только по отношению к возглавляемому им юридическому лицу, но и по отношению к такой группе лиц, как кредиторы. Он должен учитывать права и законные интересы последних, содействовать им в том числе в получении необходимой информации.
Применительно к гражданским договорным отношениям невыполнение руководителем требований Закона о банкротстве об обращении в арбитражный суд с заявлением должника о банкротстве свидетельствует о недобросовестном сокрытии от кредиторов информации о неудовлетворительном имущественном положении юридического лица.
Подобное поведение руководителя влечет за собой принятие несостоятельным должником дополнительных долговых реестровых обязательств в ситуации, когда не могут быть исполнены существующие, заведомую невозможность удовлетворения требований новых кредиторов, от которых были скрыты действительные факты, и, как следствие, возникновение убытков на стороне этих новых кредиторов, введенных в заблуждение в момент предоставления должнику исполнения.
Хотя предпринимательская деятельность не гарантирует получение результата от ее осуществления в виде прибыли, тем не менее она предполагает защиту от рисков, связанных с неправомерными действиями (бездействием), нарушающими нормальный (сложившийся) режим хозяйствования.
Одним из правовых механизмов, обеспечивающих защиту кредиторов, не осведомленных по вине руководителя должника о возникшей существенной диспропорции между объемом обязательств должника и размером его активов, является возложение на такого руководителя субсидиарной ответственности по новым гражданским обязательствам при недостаточности конкурсной массы.
При этом из содержания п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве следует, что предусмотренная этой нормой субсидиарная ответственность руководителя распространяется в равной мере как на денежные обязательства, возникающие из гражданских правоотношений, так и на обязанности по уплате обязательных платежей.
Момент подачи заявления о банкротстве должника имеет существенное значение и для разрешения вопроса об очередности удовлетворения публичных обязательств. Так, при должном поведении руководителя, своевременно обратившегося с заявлением о банкротстве возглавляемой им организации, вновь возникшие фискальные обязательства погашаются приоритетно в режиме текущих платежей, а при неправомерном бездействии руководителя те же самые обязательства погашаются в общем режиме удовлетворения реестровых требований (п. 1 ст. 5, ст. 134 Закона о банкротстве).
Таким образом, не соответствующее принципу добросовестности бездействие руководителя, уклоняющегося от исполнения возложенной на него Законом о банкротстве обязанности по подаче заявления должника о собственном банкротстве (о переходе к осуществляемой под контролем суда ликвидационной процедуре), является противоправным, виновным, влечет за собой имущественные потери на стороне кредиторов и публично-правовых образований, нарушает как частные интересы субъектов гражданских правоотношений, так и публичные интересы государства. Исходя из этого, законодатель в п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве презюмировал наличие причинно-следственной связи между неподачей руководителем должника заявления о банкротстве и негативными последствиями для кредиторов и уполномоченного органа в виде невозможности удовлетворения возросшей задолженности.
В предмет доказывания по спорам о привлечении руководителей к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве, входит установление следующих обстоятельств:
— возникновение одного из условий, перечисленных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве;
— момент возникновения данного условия;
— факт неподачи руководителем в суд заявления о банкротстве должника в течение месяца со дня возникновения соответствующего условия;
— объем обязательств должника, возникших после истечения месячного срока, предусмотренного п. 2 ст. 9 Закона о банкротстве.
При исследовании совокупности указанных обстоятельств следует учитывать, что обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель в рамках стандартной управленческой практики должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, упомянутых в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве.
Следовательно, у арбитражного суда округа отсутствовали основания для освобождения руководителя от ответственности по приведенным этим судом мотивам.
Поскольку судами первой и апелляционной инстанций неверно определен момент возникновения обязанности по уплате обязательных платежей, дело было направлено на новое рассмотрение.
Определение N 309-ЭС15-16713
3. Мировое соглашение, в том числе утвержденное в рамках предыдущего дела о банкротстве должника, может быть обжаловано лицами, участвующими в деле о банкротстве, третьими лицами, участвующими в мировом соглашении, а также иными лицами, права и законные интересы которых нарушены или могут быть нарушены этим мировым соглашением.
Определением суда первой инстанции принято заявление общества о признании его банкротом, возбуждено производство по делу.
На стадии рассмотрения обоснованности заявления определением суда утверждено заключенное обществом и компанией мировое соглашение, по условиям которого произведен взаимозачет задолженностей сторон, производство по делу прекращено.
Впоследствии в отношении должника вновь возбуждено дело о банкротстве, проведена процедура наблюдения, затем открыто конкурсное производство.
Считая, что мировое соглашение нарушает права и законные интересы должника и конкурсных кредиторов, конкурсный управляющий обратился с кассационной жалобой на определение суда, которым было утверждено указанное мировое соглашение, ходатайствуя о восстановлении пропущенного процессуального срока.
Определением арбитражного суда округа производство по кассационной жалобе прекращено. Суд пришел к выводу, что заявитель не обладает правом на обжалование мирового соглашения, утвержденного в рамках предыдущего дела о банкротстве должника.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила определение арбитражного суда округа и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.
В силу п. 1 ст. 162 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) по жалобе лиц, участвующих в деле о банкротстве, третьих лиц, участвующих в мировом соглашении, а также иных лиц, права и законные интересы которых нарушены или могут быть нарушены мировым соглашением, определение об утверждении мирового соглашения может быть обжаловано в порядке, установленном АПК РФ.
Пунктом 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением гл. III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено право конкурсных кредиторов или уполномоченных органов, а также арбитражных управляющих обжаловать определение об утверждении мирового соглашения, заключенного по другому делу в исковом процессе.
При этом указанное разъяснение не ограничивает право названных лиц на обжалование определения об утверждении мирового соглашения в рамках предыдущего дела о банкротстве того же должника, а, напротив, расширяет объем их процессуальных возможностей.
Иной подход в рассматриваемом случае (прекращение обязательств посредством взаимозачета) может привести к преимущественному удовлетворению требований одного из кредиторов несостоятельного должника перед другими возможными кредиторами и иными заинтересованными лицами, что противоречит положениям Закона о банкротстве.
Обращаясь с жалобой в арбитражный суд округа, заявитель представлял доказательства наличия иных требований к должнику (судебные акты, подтверждающие наличие задолженности, реестр требований кредиторов), не предъявленные последнему по объективным причинам, поскольку мировое соглашение утверждено до введения в отношении должника процедуры банкротства.
В такой ситуации прекращение производства по жалобе лишает заявителя возможности защитить права и законные интересы участвующих в деле о банкротстве должника лиц, которые нарушены или могут быть нарушены условиями утвержденного судом мирового соглашения, что недопустимо.
Определение N 305-ЭС15-12792
4. Правом на заявление разногласия относительно порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога наделены собрание и комитет кредиторов, волеизъявление которых формируется путем принятия коллегиального решения.
Противоречие конкурсной документации может быть устранено путем толкования применительно к положениям ст. 431 ГК РФ, а не посредством внесения в нее изменений.
В рамках дела о банкротстве общества банк, являясь залоговым кредитором, согласно абзацу третьему п. 4 ст. 138 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) определил в соответствующем положении порядок, условия и срок реализации заложенного имущества.
Председатель комитета кредиторов должника обратился в суд с заявлением об урегулировании разногласий по вопросам о порядке и условиях проведения торгов по реализации заложенного имущества, ссылаясь на то, что пункты положения не корреспондируют друг с другом, создают неопределенность относительно условий проведения торгов и тем самым ограничивают доступ к торгам потенциальных покупателей, так как в одном из них было указано, что имущество на торги выставляется «лотами», во втором же речь шла о продаже «предприятия».
Отказывая в удовлетворении требования, суд первой инстанции, выводы которого поддержал апелляционный суд, исходил из того, что первые и повторные торги уже проведены в соответствии с утвержденным положением. Доказательств, свидетельствующих о неопределенности условий положения и негативном влиянии оспариваемого пункта на реализацию заложенного имущества, не приведено.
При этом судами отклонены доводы банка о необходимости оставлять заявление председателя комитета кредиторов без рассмотрения применительно к ст. 148 АПК РФ. Данный вывод судов обоснован ссылками на ст. 2 и 35 Закона о банкротстве, а также п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 г. N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
Отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций и удовлетворяя заявленное требование, арбитражный суд округа счел доводы председателя комитета кредиторов обоснованными, указав на то, что необходимость внесения изменений в оспариваемый пункт положения в редакции, предложенной залоговым кредитором, впоследствии признана самим банком и конкурсным управляющим должником.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по следующим основаниям.
Согласно абзацу третьему п. 4 ст. 138 Закона о банкротстве правом на передачу разногласий относительно порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога обладают конкурсный управляющий и конкурсный кредитор, чьи требования обеспечены залогом.
Названное положение закона не исключает права иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, на заявление возражений относительно порядка и условий проведения торгов по продаже заложенного имущества (абзац пятый п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 г. N 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя»).
В предусмотренном ст. 34 Закона о банкротстве перечне лиц, участвующих в деле о банкротстве, председатель или представитель комитета кредиторов должника прямо не поименованы.
Однако по смыслу ст. 12 и 17 Закона о банкротстве соответствующими правами наделены как собрание, так и комитет кредиторов должника, поскольку предполагается, что они действуют в интересах конкурсных кредиторов.
При этом необходимо учитывать, что волеизъявление комитета кредиторов формируется путем принятия коллегиального решения (пп. 5, 6 ст. 17 Закона о банкротстве).
В рассматриваемом случае с заявлением об урегулировании разногласий председатель комитета кредиторов обратился в отсутствие надлежащим образом оформленного решения комитета кредиторов.
Вместе с тем, как следует из имеющихся в материалах обособленного спора пояснений конкурсного управляющего должником, последний заявление председателя комитета кредиторов поддерживает. В связи с этим основания для оставления требования без рассмотрения отсутствуют.
Приведенное противоречие конкурсной документации подлежало устранению путем толкования применительно к положениям ст. 431 ГК РФ, а не посредством внесения изменений в положение.
Так, помимо одного из пунктов положения указание на продажу имущества «лотами» содержалось в других пунктах. Кроме того, в положении была сделана ссылка на приложение, где указан конкретный перечень имущества, сформированного в 196 лотов.
Таким образом, для любого разумного участника гражданского оборота очевидно, что на продажу выставляется не предприятие как единый имущественный комплекс, а индивидуализированное имущество в лотах, в связи с чем вывод арбитражного суда округа о наличии неопределенности в конкурсной документации нельзя признать обоснованным.
Напротив, принятое арбитражным судом округа постановление неосновательно предоставляет заинтересованным лицам право на оспаривание торгов, ведет к затягиванию процедуры банкротства, увеличивает текущие расходы, что не соответствует целям конкурсного производства.
Определение N 302-ЭС15-3926
II. Разрешение споров, связанных
с недействительностью сделок
5. Крупная сделка хозяйственного общества, совершенная на основании подложных документов без согласия единственного участника, не может быть признана ничтожной на основании ст. 169 ГК РФ, как совершенная с целью, противной основам правопорядка и нравственности.
Банком (кредитором) и предпринимателем (заемщиком) заключен договор об открытии кредитной линии.
В целях обеспечения исполнения обязательств по этому договору банк (залогодержатель) и общество (залогодатель) заключили договор ипотеки недвижимого имущества.
Вступившим в законную силу судебным актом по другому делу удовлетворены требования банка о взыскании задолженности с предпринимателя по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество, принадлежащее обществу. В удовлетворении встречного иска общества и его участника к банку о признании недействительным договора ипотеки как крупной сделки, совершенной без согласия единственного участника, отказано.
Приговором суда директор общества признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ.
Ссылаясь на то, что приговором суда установлены обстоятельства представления директором общества в банк заведомо подложного решения об одобрении договора ипотеки с поддельной подписью единственного участника общества, последний обратился в суд с иском о признании этих договоров ничтожными сделками, совершенными с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ).
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, исковые требования удовлетворены.
Суды исходили из того, что преступными действиями директора обществу и его единственному участнику причинен имущественный вред, что противоречит нормам морали и обычаям делового оборота. Суды указали, что данные действия единоличного исполнительного органа не могут быть оценены как формирующие волю общества на передачу недвижимого имущества в залог банку.
При этом судами отклонен довод банка о его добросовестности и неосведомленности о факте подложности решений единственного участника. Суды отметили, что с учетом совершения сделок с целью, противной основам правопорядка и нравственности, оснований для признания интересов банка более приоритетными по сравнению с интересами истца не имеется.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и отказала в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.
В рамках другого дела по иску банка о взыскании кредитной задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество обществом и участником был предъявлен встречный иск о признании недействительными договоров ипотеки как крупных сделок, совершенных без одобрения (ст. 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). По итогам рассмотрения встречного иска в его удовлетворении было отказано.
Обращаясь в суд с иском по настоящему делу и основывая свои требования на положениях ст. 169 ГК РФ, участник общества, по сути, ссылается на те же самые обстоятельства, что и в рамках первого дела — отсутствие одобрения договоров ипотеки. Его позиция дополнена лишь ссылкой на приговор как доказательство подложности решений единственного участника.
Предъявляя настоящий иск, участник должен был доказать наличие у сторон (либо у одной из сторон) договоров ипотеки при их заключении цели, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, то есть не просто цели на заключение сделки, не соответствующей требованиям закона или иных правовых актов, а нарушающей основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои (п. 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее — постановление N 25).
По мнению участника, о такой цели свидетельствуют преступные действия директора общества по подделке решений единственного участника.
В то же время, поскольку в предмет доказывания по настоящему делу входили обстоятельства, указывающие на ничтожность договоров ипотеки, а не решений об их одобрении, участник должен был доказать, что заключением соответствующих соглашений общество и/или банк преследовали соответствующие асоциальные цели.
Само по себе обременение имущества ипотекой (даже направленное на обеспечение исполнения обязательств третьих лиц в отсутствие для залогодателя экономической целесообразности) не свидетельствует о наличии у одной из сторон сделки цели, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Напротив, договор ипотеки является одной из наиболее распространенных договорных конструкций, регулярно применяемых участниками гражданского оборота, так как залог во многом направлен на развитие кредитных отношений, которые являются одной из необходимых предпосылок экономического роста. Следовательно, заключение залоговых соглашений указывает на наличие у сторон целей, соответствующих как основам правопорядка, так и экономической политике государства.
Кроме того, нарушение прав конкретного лица хоть и является противозаконным, вместе с тем еще не свидетельствует о наличии у правонарушителя асоциальной цели по смыслу ст. 169 ГК РФ, равно как не свидетельствует о наличии такой цели само по себе нарушение конкретной нормы права.
При рассмотрении настоящего дела суды фактически противопоставили интересы собственника, передавшего свое имущество в залог, интересам добросовестного кредитора, надлежащим образом исполнившего обязанность по проверке полномочий органа управления контрагента на подписание договоров ипотеки, отдав приоритет первому из них.
При этом суды не приняли во внимание, что российский правопорядок базируется также на необходимости защиты прав добросовестных лиц и поддержании стабильности гражданского оборота, что в числе прочего подразумевает направленность правового регулирования и правоприменительной практики на сохранение юридической силы заключенных сделок.
Поэтому приоритет в рассматриваемом случае необходимо было отдать банку как лицу добросовестному, положившемуся на представленный генеральным директором, сведения о котором имелись в ЕГРЮЛ, комплект документов.
Ссылка истца на то, что банк, проявляя требующуюся от него по условиям оборота заботливость и осмотрительность, должен был проверить подлинность подписей на решениях об одобрении крупных сделок, обратившись к участнику лично, отклонена судом.
Истец является единственным участником общества. Указанное означает, что состав органов управления формируется им не в результате достижения компромисса с интересами иных держателей прав участия, а посредством единоличного принятия решения. Таким образом, для любого разумного участника оборота очевидно, что лицо, назначаемое на должность генерального директора, пользуется личным доверием единственного участника. Из этого следует, что действия в ущерб интересам банка, направленные на аннулирование выданного таким директором залога, свидетельствуют о попытке истца переложить негативные последствия осуществленного им неправильного выбора менеджера на третье лицо, что не согласуется с принципом добросовестности (ст. 1 и 10 ГК РФ).
Определение N 308-ЭС15-18008
III. Право собственности и другие вещные права
6. В случае, когда объект создан исключительно в целях улучшения качества и обслуживания земельного участка и не обладает самостоятельным функциональным назначением, он является неотъемлемой частью земельного участка и не может быть признан объектом недвижимости, права на который подлежат государственной регистрации.
Правом на подачу иска о признании отсутствующим права собственности на такой объект обладает в том числе арендатор земельного участка.
На основании договора аренды, заключенного с собственниками долей в праве общей долевой собственности, с 2008 года общество является арендатором земельных участков сельскохозяйственного назначения.
В 2013 году в ЕГРП внесена запись о праве собственности Российской Федерации на сооружение (инженерную рисовую систему), расположенную в границах арендуемых обществом земельных участков.
Ссылаясь на то, что регистрация права собственности на это сооружение как самостоятельный объект недвижимости не соответствует закону и нарушает права общества, последнее обратилось в суд с иском о признании отсутствующим права собственности Российской Федерации.
Удовлетворяя указанное требование, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что использование инженерной рисовой системы в отрыве от производства риса невозможно, система предназначена для улучшения поверхностного слоя почвы, иного хозяйственного назначения не имеет. Эта система не обладает самостоятельным функциональным назначением, создана исключительно в целях улучшения качества и обслуживания земельных участков, на которых она расположена, поэтому является их неотъемлемой частью и в силу ст. 135 ГК РФ должна следовать судьбе этих земельных участков. Государственная регистрация права собственности на спорную систему за другими лицами и возможность распоряжения ею этими лицами нарушает права общества по ее использованию как части арендуемого земельного участка.
Отменяя решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и отказывая в удовлетворении заявленного требования, арбитражный суд округа пришел к выводу, что согласно положениям постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 3020-1 и Федерального закона от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ «О мелиорации земель» (далее — Закон о мелиорации) спорный объект может находиться исключительно в федеральной собственности. Суд также отметил, что общество как арендатор лишено интереса в признании права собственности Российской Федерации на спорный объект отсутствующим.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в силу следующего.
Арбитражный суд округа не учел, что основанием заявленного по делу иска является отсутствие у спорного объекта признаков недвижимости, в связи с чем при подтверждении обстоятельств, на которых был основан иск, суды правомерно применили п. 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» и удовлетворили требование истца в целях исключения оспариваемой записи из ЕГРП.
Кроме того, земельные участки, в границах которых располагается инженерная рисовая система, находятся в собственности физических лиц (собственников земельных долей), были приватизированы ими до принятия Закона о мелиорации. Земельные участки были переданы вместе с существующей на тот период времени инженерной рисовой системой и поэтому следуют их судьбе.
Учитывая наличие зарегистрированных в установленном законом порядке права собственности общей долевой собственности физических лиц, а также права аренды общества на земельные участки, на которых расположена инженерная рисовая система, регистрация права федеральной собственности была осуществлена минуя механизм истребования объекта из фактического владения других лиц.
Сохранение оспариваемой регистрации права собственности одного лица на спорный объект как недвижимую вещь, расположенную на земельном участке, имеющую другого собственника, нарушает принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов (ст. 1 ЗК РФ), разрывает общий правовой режим этих объектов и делает невозможным их надлежащее использование.
Судебная коллегия также отметила, что, поскольку иск о признании права собственности отсутствующим относится к негаторному требованию, правом на подачу в соответствии со ст. 304, 305 ГК РФ такого иска обладает также арендатор имущества, права владения и пользования которого нарушаются оспариваемой регистрацией права собственности публичного образования.
Определение N 308-ЭС15-15218
7. Если застройщик по договору долевого участия в строительстве здания, состоящего из нежилых помещений, одновременно является собственником земельного участка, на котором осуществлялось строительство, с переходом права собственности на нежилое помещение к участнику долевого строительства переходит также право долевой собственности на земельный участок.
Предприниматель (участник долевого строительства) и общество (застройщик) заключили договор долевого участия в строительстве здания административно-торгового назначения. Общество одновременно являлось собственником земельного участка, на котором осуществлялось строительство. В соответствии с условиями договора к общему имуществу здания стороны отнесли земельный участок, подлежащий передаче в общую долевую собственность дольщикам — собственникам помещений, расположенных в здании, наряду с другими объектами общего имущества.
Во исполнение условий договора и на основании акта приема-передачи общество передало предпринимателю в собственность нежилое помещение и долю в праве собственности на общее имущество. Право собственности предпринимателя на помещение было зарегистрировано в установленном порядке.
Предприниматель обратился в регистрирующий орган с заявлением о регистрации права долевой собственности на спорный земельный участок.
Регистрирующий орган, отказывая в государственной регистрации, указал на то, что законом не предусмотрен переход земельного участка в общую долевую собственность собственников помещений в нежилом здании.
Предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о признании этого отказа незаконным.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявление предпринимателя было удовлетворено. Суды применили по аналогии положения ст. 36 ЖК РФ и исходили из того, что право долевой собственности предпринимателя на земельный участок возникло в силу закона, поскольку он является собственником помещения в здании, расположенном на этом участке.
Отменяя решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и отказывая в удовлетворении заявления, арбитражный суд округа указал на то, что договор на участие в долевом строительстве и акт приема-передачи не являются основанием для регистрации права общей долевой собственности на земельный участок. Суд также отметил, что положения ст. 36 ЖК РФ не подлежат применению к спорным правоотношениям.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного суда округа, а решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставила без изменения в силу следующего.
В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ одним из основных принципов земельного законодательства является принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов.
В развитие данного принципа п. 4 ст. 35 ЗК РФ запрещает отчуждение земельного участка без находящихся на нем зданий, строений, сооружений в случае, если они принадлежат одному лицу.
Таким образом, если земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости принадлежат на праве собственности одному лицу, сделка по отчуждению объекта не может быть совершена без отчуждения земельного участка, на котором он находится.
Исходя из условий договора, являющегося договором купли-продажи недвижимости, созданной в будущем, при разрешении спора подлежали применению также положения ст. 552 ГК РФ о переходе права собственности на земельный участок вместе с отчуждением находящейся на нем недвижимости.
Условия заключенного сторонами договора на участие в долевом строительстве об одновременной передаче вместе с помещениями, приобретаемыми по договору, земельного участка, на котором расположено здание, соответствуют положениям п. 2 ст. 552 ГК РФ.
Подписанным по результатам реализации договора актом приема-передачи стороны подтвердили также фактическую передачу земельного участка дольщикам в соответствии с условиями указанного договора.
При таких обстоятельствах вывод суда кассационной инстанции о том, что договор на участие в долевом строительстве и акт приема-передачи не являются основаниями возникновения права собственности предпринимателей, нельзя признать обоснованным и соответствующим закону.
Применение судами первой и апелляционной инстанций при разрешении спора ст. 36 ЖК РФ является ошибочным, поскольку основанием возникновения права собственности предпринимателей на долю в праве собственности на земельный участок является договор на участие в долевом строительстве, а не ст. 36 ЖК РФ, применяемая к возникновению прав на земельный участок, расположенный под многоквартирным жилым домом. Определение сторонами договора долевого участия земельного участка как объекта общего имущества также не дает оснований применять к спорным отношениям указанную норму права. Вместе с тем, поскольку судами спор разрешен, в том числе на основании иных норм материального права, регулирующих спорные правоотношения, ссылка судов на эту норму не привела к неправильным выводам по существу спора.
Определение N 307-КГ15-14692
8. Законодательством не предусмотрен переход земельного участка, находящегося в публичной собственности и на котором построено нежилое здание, в общую долевую собственность собственников помещений в этом здании, если застройщику земельный участок был предоставлен по договору аренды.
В этом случае с момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в нежилом здании на стороне арендатора возникает множественность лиц в арендных правоотношениях, существующих между застройщиком и собственником земельного участка.
Комитетом по управлению имуществом муниципального образования (арендодатель; далее — комитет) и обществом (арендатор) заключен договор аренды земельного участка, находящегося в публичной собственности, для строительства нежилого здания административно-торгового назначения.
Ссылаясь на то, что общество не исполнило обязанность по внесению арендных платежей, комитет обратился в суд с иском об их взыскании.
В возражениях на иск общество указало на то, что на спорном земельном участке построено нежилое здание; оно введено в эксплуатацию и на одно из помещений в нем осуществлена государственная регистрация права собственности фирмы — участника долевого строительства.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении исковых требований отказано.
Суды по аналогии применили ст. 289, 290 ГК РФ, ст. 36 ЖК РФ, а также ст. 1 и 16 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и пришли к выводу о том, что по завершении строительства и регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в здании земельный участок перешел в долевую собственность собственников помещений нежилого здания и выбыл из распоряжения комитета с момента государственной регистрации первого права собственности на нежилое помещение.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила указанные судебные акты и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.
В силу ст. 289, 290 ГК РФ, ст. 36 ЖК РФ, а также в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пп. 66, 67 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. N 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды», с момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме соответствующий земельный участок поступает в долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, а договор аренды этого участка прекращается на основании ст. 413 ГК РФ независимо от того, в частной или публичной собственности находился переданный в аренду земельный участок.
В отношении земельных участков, находящихся в публичной собственности и предоставленных застройщику в аренду для строительства нежилых объектов, подлежит применению иной правовой подход.
Из абзаца второго п. 3 ст. 552 ГК РФ и п. 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. N 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» следует, что при продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, к покупателю этой недвижимости с момента государственной регистрации перехода права собственности на нее переходит то право на земельный участок, которое принадлежало продавцу недвижимости, а также связанные с этим правом обязанности при наличии таковых (перемена лица в договоре аренды).
В случае если имевшееся у застройщика (продавца) право аренды земельного участка перешло к нескольким лицам в связи с приобретением ими в собственность нежилых помещений в том числе во вновь построенном нежилом здании, с момента государственной регистрации права собственности на помещения на стороне арендатора возникает множественность лиц в арендных правоотношениях, существующих между застройщиком и собственником земельного участка.
Поскольку ни закон, ни договор аренды не содержат такого основания, как автоматическое прекращение договора аренды земельного участка, находящегося в публичной собственности, на котором построено отдельно стоящее нежилое здание, после завершения строительства (ввод объекта в эксплуатацию, передача в собственность помещения в здании иному лицу и т.п.), то и после наступления этих обстоятельств указанный договор аренды продолжает действовать.
Учитывая отсутствие законодательного пробела в части регулирования спорных правоотношений, у судов не имелось оснований для применения к этим правоотношениям по аналогии закона положений о прекращении договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного дома, в случае отчуждения жилых или нежилых помещений в нем.
Таким образом, суды, необоснованно применив положения ст. 36 ЖК РФ, ст. 289 и 290 ГК РФ в отношении спорного земельного участка, пришли к неправильным выводам о том, что договор аренды указанного участка прекратил свое действие 25 сентября 2014 г. и комитет утратил право распоряжаться этим участком в спорный период.
Определение N 305-ЭС15-16772
IV. Разрешение споров, возникающих
из обязательственных правоотношений
9. Порядок исполнения судебного акта, предусмотренный п. 6 ст. 242.2 БК РФ, не регулирует отношения по исполнению судебных актов об обязании ответчика вернуть истцу полученные по расторгнутому гражданско-правому договору денежные средства. Проценты, установленные ст. 395 ГК РФ, подлежат начислению на сумму этих денежных средств с момента, когда должник узнал или должен был узнать о неосновательности их получения или сбережения, до дня их фактического возврата (пп. 3 ст. 1103, п. 2 ст. 1107 ГК РФ).
Компанией (инвестором-застройщиком), впоследствии передавшей свои права требования обществу, и правительством субъекта Российской Федерации (далее — правительство) был заключен инвестиционный контракт о реализации проекта по строительству ряда объектов.
Во исполнение обязательств по контракту компанией перечислено правительству 10 016 553 рубля.
В связи с неисполнением правительством своих обязательств инвестиционный контракт был расторгнут по решению суда.
Решением суда первой инстанции от 28 ноября 2013 г. по другому делу с правительства в пользу общества взыскано 10 016 553 рублей неосновательного обогащения.
Платежным поручением от 1 июля 2014 г. правительство произвело перечисление обществу денежных средств на основании исполнительного документа.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к правительству о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с даты вступления в законную силу судебного акта о расторжении инвестиционного контракта до момента возврата денежных средств.
В отзыве на иск правительство ссылалось на то, что финансовый орган субъекта Российской Федерации исполнил свою обязанность по исполнению исполнительного листа в срок, установленный действующим бюджетным законодательством (ст. 239, 242.1 БК РФ). Исполнительный документ был предъявлен в уполномоченный орган 31 марта 2014 г. и исполнен 1 июля 2014 г.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковое требование удовлетворено.
Суды руководствовались ст. 395 и 1107 ГК РФ и исходили из того, что установленные бюджетным законодательством особенности порядка исполнения судебных актов, предусматривающие взыскание средств за счет бюджетов по предъявлении исполнительного листа, не регулируют гражданско-правовые отношения и не изменяют оснований и условий гражданско-правовой ответственности за неисполнение договорного обязательства.
Арбитражный суд округа постановлением отменил названные судебные акты и отказал в удовлетворении исковых требований. Суд согласился с доводами ответчика об отсутствии оснований для начисления процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях, когда исполнительный лист исполнен финансовым органом в срок, установленный ст. 242.1 БК РФ.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по следующим основаниям.
Обязанность ответчика по возврату денежных средств возникла в связи с исполнением и последующим расторжением гражданско-правового договора (инвестиционного контракта), а не вследствие причинения вреда (деликта).
Следовательно, эти обязательства не регулируются ст. 242.2 БК РФ, посвященной особенностям исполнения судебных актов по искам к публично-правовым образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.
Особенности исполнения судебных актов о взыскании денежных средств с должника — публично-правового образования за счет средств бюджетов бюджетной системы, установленные ст. 242.1, 242.3 — 242.5 БК РФ, не освобождают должника от обязанности своевременно исполнить обязательство по возврату полученной по расторгнутому договору денежной суммы и не являются основанием для освобождения должника от уплаты процентов, начисляемых в соответствии со ст. 395 ГК РФ (п. 1 ст. 1, ст. 124 ГК РФ).
Определение N 305-ЭС15-12509
10. Если нормативный акт, устанавливающий расчет регулируемой арендной платы, признан решением суда недействительным и имеется ранее принятый нормативный акт, регулирующий аналогичные отношения, расчет арендной платы на основании признанного недействительным нормативного акта является незаконным.
В 2007 году администрацией города Оренбурга (арендодатель; далее — администрация) и предпринимателем (арендатор) заключен договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, для строительства автосервиса.
Согласно договору размер арендной платы изменяется с момента вступления в законную силу нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъекта федерации и муниципального образования, регулирующих порядок начисления и размер арендной платы без дополнительного согласования с арендатором и внесения изменений в договор аренды.
Дополнительным соглашением от 28 сентября 2010 г. сторонами согласован размер арендной платы на 2010 год исходя из положений постановления правительства Оренбургской области от 12 октября 2009 г. N 530-п «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на который не разграничена, на территории Оренбургской области» (далее — постановление N 530-п) и постановления правительства Оренбургской области от 16 октября 2009 г. N 537-п «Об утверждении ставок арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Оренбургской области» (далее — постановление N 537-п).
Решением арбитражного суда Оренбургской области от 31 августа 2012 г. постановление N 537-п признано недействительным.
Ссылаясь на то, что ответчик не исполнял обязанность по внесению арендных платежей за 2010 год, администрация обратилась в суд с иском о взыскании задолженности. Размер арендной платы рассчитан истцом на основании постановлений N 530-п и N 537-п.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, исковые требования удовлетворены.
Суды исходили из того, что договором закреплена методика расчета арендной платы, поэтому определение размера задолженности с применением ставок, утвержденных постановлением N 537-п, не противоречит нормам закона и не нарушает права предпринимателя.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила указанные судебные акты и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Суды с учетом заключения договора аренды земельного участка, относящегося к землям, собственность на которые не разграничена, после вступления в силу ЗК РФ обоснованно указали, что арендная плата по нему является регулируемой, определяемой в порядке, установленном правительством Оренбургской области.
Вместе с тем судами не учтено, что администрация произвела расчет арендной платы по ставкам, установленным постановлением N 537-п, признанным судом недействующим и не подлежащим применению.
Пункт 1 ст. 424 ГК РФ предоставляет кредитору возможность требовать исполнения договора по установленной законом цене, но только в том случае, когда соответствующий правовой акт о ее установлении не признан судом противоречащим закону. Иное толкование этой нормы означало бы, что кредитор может получать незаконно установленную цену.
Суды, применив при разрешении спора правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. N 15837/2011, не учли, что она могла быть применена только к тем случаям, когда при отмене нормативного акта, устанавливающего ставки арендной платы, отсутствовал ранее действовавший нормативный акт, регулирующий плату за землю.
Однако в данном случае имеется нормативный акт, которым определялись ставки арендной платы за использование земельных участков до принятия постановления N 537-п. Таким актом, регулировавшим аналогичные отношения, является постановление правительства Оренбургской области от 25 декабря 2007 г. N 456-п «Об утверждении порядка определения размеров арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Оренбургской области».
Таким образом, применение судами постановления N 537-п при рассмотрении настоящего дела не может быть признано правомерным, подход судов являлся бы обоснованным при отсутствии ранее действовавшего нормативного акта, регулирующего аналогичные отношения.
Определение N 309-ЭС15-16627
11. Условие договора подряда о том, что подрядчик не обладает правом на удержание согласно ст. 712 ГК РФ, является действительным.
Обществом (заказчик) и компанией (подрядчик) заключен договор строительного подряда.
После приемки результатов работы обществом в адрес компании направлено письмо с просьбой представить исполнительную документацию.
Компания сообщила обществу, что исполнительная документация будет передана при условии оплаты дополнительных работ, выполненных подрядчиком.
Общество обратилось в суд с иском к компании об обязании передать исполнительную документацию. Общество также ссылалось на то, что договором подряда исключено право подрядчика на удержание, предусмотренное ст. 712 ГК РФ.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. Суд указал на недоказанность факта удержания компанией исполнительной документации, поскольку объект строительства введен в эксплуатацию.
Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции. Суд исходил из того, что, в силу п. 2 ст. 9 ГК РФ, отказ от осуществления права не влечет прекращения этого права, за исключением случаев, предусмотренных законом. Таким образом, подрядчик вправе удерживать исполнительную документацию до момента оплаты выполненных работ вне зависимости от исключения этого права условием договора.
Арбитражный суд округа согласился с выводом суда апелляционной инстанции.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила решение суда первой инстанции, постановления суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.
Соглашение сторон о том, что подрядчик не будет иметь прав, предусмотренных ст. 712 ГК РФ, не противоречит ст. 9 ГК РФ в силу диспозитивности ст. 359, 712 ГК РФ.
Судами также, в нарушение ст. 726 ГК РФ, необоснованно не принят довод общества о том, что исполнительная документация необходима как для безопасной эксплуатации объекта, так и для проведения ремонтных работ.
Определение N 306-ЭС15-16624
V. Споры, возникающие из налоговых правоотношений
12. Возникновение контролируемой задолженности в результате выдачи займа российской организацией приводит только к ограничению у заемщика вычета процентов при исчислении налога на прибыль в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 269 НК РФ. Возложение на российскую организацию — заемщика дополнительной обязанности налогового агента при выплате процентов по такому займу другой российской организации является незаконным.
Обществом (заемщиком) и компанией (займодавец), зарегистрированными в Российской Федерации, заключено несколько договоров займа с начислением процентов.
Акционером компании, владеющим 99, 9995 процентов акций, является иностранная фирма, зарегистрированная в Республике Кипр.
Поскольку компания является участником общества, обладая 90 процентами его уставного капитала, доля косвенного участия иностранной фирмы в капитале общества в проверяемый период составляла не менее 89 процентов.
По результатам выездной налоговой проверки налоговым органом принято решение, которым обществу доначислен налог на прибыль, пени за несвоевременную уплату (неуплату) налога и штрафы за совершение правонарушений, предусмотренных п. 1 ст. 122 и п. 1 ст. 123 НК РФ.
Основанием для принятия указанного решения послужил вывод о необоснованном отнесении обществом в полном объеме к внереализационным расходам при исчислении налога на прибыль процентов, начисленных по названным договорам займа, поскольку предоставившее их лицо — компания является аффилированным лицом иностранной фирмы, косвенно владеющей более 20 процентами капитала общества.
В связи с этим, по мнению налогового органа, на основании п. 2 ст. 269 НК РФ указанная задолженность по займам признается контролируемой и начисленные по ней проценты могут быть включены в состав расходов не более рассчитанной в соответствии с этой нормой предельной суммы, которая в данном случае вследствие отрицательного значения принадлежащего обществу собственного капитала (чистых активов) составила нулевую величину.
Кроме того, налоговый орган пришел к выводу о том, что, вопреки п. 4 ст. 269 НК РФ, общество не исполнило обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с доходов иностранной фирмы, полученных в виде дивидендов, сочтя в качестве таковых проценты по контролируемой задолженности, выплаченные компании.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения налогового органа недействительным.
Решением суда первой инстанции требования общества удовлетворены.
Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении требований общества отказано.
Общество обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации в части вывода суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа о неисполнении обществом обязанности налогового агента.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление суда апелляционной инстанции и постановление арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции в оспариваемой части, в остальной части постановление суда апелляционной инстанции и постановление арбитражного суда округа оставила без изменения по следующим основаниям.
Из буквального толкования п. 2 ст. 269 НК РФ следует, что к контролируемой задолженности отнесены как долговые обязательства, возникшие непосредственно перед иностранной организацией, участвующей в капитале заемщика, так и долговые обязательства перед российскими организациями — аффилированными лицами таких иностранных организаций.
В последнем случае контролируемая задолженность лишь считается возникшей перед иностранной организацией, имея в виду наличие у иностранной организации возможности оказывать влияние на принятие аффилированным с ней лицом решения о предоставлении займа.
При таком построении бизнеса российской организацией, когда имеет место высокая доля долга, аффилированность заемщика и кредитора, в лице которого выступает не только иностранная организация, но и российская организация, аффилированная с иностранной организацией, рассматриваемой нормой НК РФ вводится ограничение по учету процентов в составе расходов, направленное на противодействие злоупотреблениям в налоговых правоотношениях.
Помимо того, последствием отнесения задолженности по долговому обязательству к контролируемой является то, что в соответствии с п. 4 ст. 269 НК РФ сумма процентов, признаваемая согласно п. 2 данной статьи избыточной (положительная разница между фактически начисленными и предельными процентами), приравнивается в целях налогообложения к дивидендам, уплаченным иностранной организации.
Вместе с тем, устанавливая правило о налогообложении соотвеm